
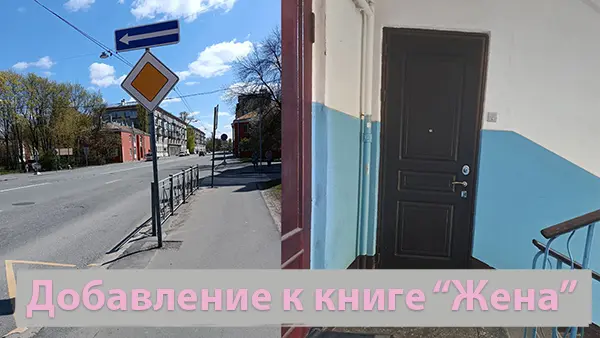
Добавление к книге «Жена»
Очевидно, мои писания о жене будут становиться все более банальными. Или не будут избавлены от вынужденных повторений. Ведь все, что нужно, вошло в текст книги, а один из главных писательских приемов — выбор и отсечение лишнего. Раз что-то не вошло, значит, не прошло кордон этого критерия. Я старался, чтобы главки были короткими, стремительными и без обычного для меня умствования, чего Танька не любила.
Но меня неудержимо тянет рассказывать о том, о чем я помню или вспоминаю по тому или иному поводу, в том числе, на первый взгляд, микроскопическому. Таньку, очень любившую свою мать, Зою Павловну, раздражал ее один речевой оборот. Вспоминая кого-то из уже умерших родственников или знакомых, она добавляла: как говорила Марья Ивановна, покойница. Зачем эта «покойница», ведь мама вспоминает живого человека, зачем ему прикреплять эту бирку, делающую акцент на ее — в будущем — смерти. Так обо всех, кто когда-то жил, можно говорить: покойник или покойница. Александр Сергеевич, покойник, раз приобнял Наталью Николаевну, покойницу, и говорит. Глупо. Это при том, что сама Зоя Павловна была мало того, что нерелигиозной, так и с неодобрением воспринимала неофитские поползновения младшей своей дочери и сестры Тани — Наташи.
Я вспомнил об этом, думая о своей Таньке и одновременно вспоминая ее живой и здоровой, но как бы через пелену то ли слез, то ли знания о будущем. В ее смерти есть целый ряд почти издевательских или просто странных совпадений. Она трепетно, как многие, пожившие при совке, относилась к Новому году, одному из немногих не идеологических советских праздников, отмечая не только его, как календарную метку, но и как выход за советские флажки. И вот надо было судьбе так подгадать, чтобы она умерла 1 января, а 31 декабря, которое я провел у ее постели, ей было так плохо, что мы даже не вспомнили о празднике, хотя я последние годы пытался им манкировать, тяготясь привычкой есть и пить ночью. Поэтому мы чаще всего отмечали его по русскому времени, в наши 4 дня, а затем смотрели, как запускают шар на Times Square, выпивали что-то символическое и шли в постель.
Но в свой предпоследний день Танька была так слаба, что впервые не вспомнила о празднике, не сказала, типа, вот, выздоровлю, тогда и отметим. А последняя фразу, которая стоит у меня в ушах и которой она проводила нас с Милой, женой Алеши: «Все болеют, все поправляются». Так что мы не попрощались даже, хотя, может быть, это и хорошо, она ушла без стона, без жалобы, хладнокровно и мужественно. И я никогда уже не узнаю, боялась, предчувствовала она смерть или просто держала марку или действительно была уверена в себе и хотела жить.
Только теперь, но не сразу, а постепенно, когда ее нет уже полгода, я понимаю, до какой степени одинокую жизнь мы вели в Америке. И одновременно: как много разнообразных социальных ролей она играла в моей жизни. Потому что я не ощущал никакого одиночества, мне абсолютно всего хватало, ибо мой день делился между ежедневной работой-писанием и всем остальным, что я делал вместе с Танькой.
Жена и так исполняет слишком много ролей — она и подружка и любовница, и хранитель воспоминаний, и хозяйка дома, компаньон почти во всех затеях и собеседник, с которой такой говорун, как я, обсуждает почти все мысли, которые приходят в голову и проходят апробацию именно в этом диалоге.
Но жена в эмиграции — еще хор, массовка, зрительный зал, университетская аудитория. Она перебирала эти роли, потому что просто жила и разговаривала со мной. И мне, привыкшему к дружескому в юности, богемному подпольному общению в молодости, прошедшей в андеграунде, и потерявшему почти все по разным причинам, в том числе разных политических предпочтений, Танька заменяла мне все, без изъятий. Я тоже вынуждено заменял ей многое, но у неё оставалась тяга к живому общению, она с удовольствием ездила к кузине Вике в Провиданс, к бывшему соседу и приятелю Лене в Северную Каролину, к Маше Веденяпиной в Майами, общалась с обеими Женьками, монашкой и переводчицей. Потому что у меня была ежедневная работа, а ее работой во многом был — я.
И я ужаснулся той пустоте, в которой окажусь, как только понял, что ее болезнь — серьезная. И просто предчувствие или представление о том, что может случиться, с какой-то мгновенной и беспощадной ясностью показали мне гнетущее одиночество, замаячившее впереди. Нет, я пытался все сделать, чтобы увеличить ее шансы не из-за эгоистического понимания, как мне будет плохо одному. Я вообще так устроен, я ни на кого не надеюсь, я уверен (ошибочно), что все сделаю лучше других, и спасти ее смогу только я. Но я не спас, и не могу с этим смирится.
И по непонятно какой ассоциации, я вспоминаю наши первые годы на первой нашей квартире, доставшейся в наследство от бабушки, в Веселом поселке. Сначала с нашими друзьями по школе и черным терьером Джиммой, потом с Алешей. Благодаря бедности и общительности Таньки, мы дружили со всеми соседями. С Марьей Михайловной, она жила на девятом этаже над нами и часто выручала, то посидит с маленьким Алешей, когда мы ездили к друзьям, но выручит десяткой до получки. Мы до начала перестройки были бедны как весь андеграунд, работавший, как я, в котельной или на других работах, не предполагавших идеологического соответствия презираемому совку и оставляющим много свободного времени для чтения и писания.
Еще до того, как я пошёл на курсы кочегаров, так как КГБ турнуло меня и с экскурсоводской и библиотечной синекур, я пытался найти работу около дома. Работал сторожем, несколько ночей провел, охраняя универсам напротив, потом какое-то время ночным же сторожем на одном предприятии на противоположной стороне улицы Крыленко, почти у самой набережной. И Танька всегда ходила ко мне, одна или с маленьким Алешей, приносила еду, просто навещала, чтобы мне не было так одиноко. Ведь телефонов не было, я не о мобильниках, до которых целая эпоха, а простой городской телефон (зелененький крокодильчик, ласково называла его Танька) появился у нас году в 1984, не раньше.
А еще мы сдавали посуду. Не собирали по помойкам, а свою посуду — бутылки, остававшиеся после наших субботних посиделок, банки от той или иной еды. Мы ездили куда-то, точно не помню, но несколько остановок на 118 автобусе, где ты погружался в мир бомжей и алкашей, и это был маленький праздник, у тебя появлялось несколько лишних рублей, а когда их всего 84 (умноженные на два), то и рубль — деньги.
И еще я помню, как умерла Марья Михайловна. В самом конце 80-х. Она была такая прозрачная, светлая, простая и полностью понятная своей деликатностью и доброжелательностью. Ее квартирка была чиста и солнечна как светелка, паркет натерт и блестел от мастики, все аккуратно и торжественно спокойно как в пустом дворце. Я помню эту ночь, когда я вдруг услышал какие-то совершенно непривычные грубые звуки сверху, из ее квартиры. Кто-то громко и бесцеремонно ходил, задевал мебель, что-то отодвигал, сопровождая любой жест звуком, совершенно не вязавшимся с нашей Марьей Михайловной. И я сразу подумал о нехорошем. Это были звуки чужие, нетерпеливые, беспардонные. Потом еще несколько раз лифт остановился на верхнем этаже, потом громкие звуки переместились на лестничную площадку, мужские грубые голоса, возня возле лифта, и разом обрушившаяся тишина. Мне все было понятно, нашу соседку, то, что от неё осталось, увезли.
Почему я вспомнил об этом? Танька была не похожа на Марью Михайловну, которая по молодости была проводником пассажирских поездов (представляю стерильную чистоту ее вагона), и одновременно похожа своей спокойной, неторопливой манерой жизни, без отдаленных даже претензий на лидерство или доминирование. Но при этом совершенно никак ни рыба, ни мясо, у меня в ушах стоит ее приговор: «сопли» — по поводу любовных книжных или киноисторий, всего, что эксплуатирует чужие и близко залегающие чувства.
И не поморщилась бы она в некоторых моментах моего о ней рассказа, который сваливает на неё слишком много. Не потому, что во всем, что я делал и даже делаю сейчас, ее присутствие было преобладающим, неискоренимым, а потому что расстояние и боль от ее ухода окрашивают и даже перекомпоновывают прошлое как редактор, знающей на чем или ком делать акцент.
Моя девочка, моя единственная и незаменимая помощница, мой вдохновитель, мой главный читатель и редактор, моя акустика, моя попытка выжить без тебя смехотворна, ходульна и неестественна, и я живу, пока ты живешь во мне. Или мне это только кажется.
