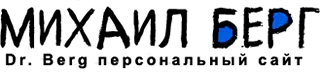Скажи мне, кто твой друг в политике
Борхес, говоря, что наиболее банальные метафоры потому употребительны, что самые верные, отдает должное предположению, что наиболее очевидное — далеко не всегда только упрощение, но и обнажение сути.
Если сравнивать сегодняшних правых автократов — Трампа, Путина, Нетаньяху, Эрдогана, Орбана и других (например, китайца Си или индуса Моди, хотя привлечение этих имен чуть усложнит анализ), то наиболее очевидными совпадениями будет самоуверенность, нарциссизм и антиинтеллектуальность.
То есть они обращаются к аудиториям, которые либо не в состоянии идентифицировать их очевидные свойства как дезавуирующие, либо интерпретируют не в негативном ключе, а в позитивном — как твердость, отказ от лицемерия, свойственного либеральному дискурсу и вообще демократиям. Или отказ от вранья, причем, именно в тот момент, когда они откровенны лгут. Потому что ложь не воспринимается (я заключу мир между Россией и Украиной за 24 часа), (Россия никогда не нападет на Украину, Россия вообще никогда не начинала войны), это всегда риторический прием, оправданный, когда на тебя нападают враги.
Но даже то, что эксперты и СМИ фиксируют, коллекционируют и интерпретируют многочисленные случаи подтасовки фактов, ложных, бездоказательных утверждений, адресный электорат правых автократов интерпретируют эти высказывания в позитивном и комплементарном для автократов ключе как отказ от словаря лицемерия и яркость, провокационность публичной речи, не обязанной соответствовать правилам, вроде как ставшими писанными и неписанными законами, по крайней мере, за последние 50-70 лет.
То же касается такого аспекта речевых реакций автократов как откровенный антиинтеллектуализм. То есть многие заявления Эрдогана или Трампа, Путина или Нетаньяху настолько интеллектуально ущербны и несостоятельны, что не могли быть озвучены в ситуации доминирования культурной вменяемости и проверяемости утверждений. В прошлую эпоху, до наступления нынешней поры активизации и победы правого националистического тренда, большинство из таких утверждений вели бы к обрушению политической репутации. Но сегодня не только не осуждаются, а интерпретируются как полемическая яркость, гипербола или преувеличение, хотя очень часто являются ложью или откровенным и неприкрытом хвастовством и самолюбованием.
Но в том-то и дело, что правые автократы и не могли был оказаться на вершине власти своих обществ, если бы националистический и антидемократический (и уж точно антилиберальный) тренд не стал доминирующим в той части общества, которая в предыдущую эпоху считалась маргинальной, не характерной и мало влиятельной, а в новую эпоху определила запрос и легитимность прихода к власти правых и националистов.
Почти все то, что либеральной частью общества и правилами, сложившимися за период после окончания Второй Мировой войны, интерпретировалось как невозможный и дискредитирующий себя моветон, националистическая часть обществ идентифицирует как правильное, яркое и честное поведение.
Понятно, существует множество как социальных, так и культурологических методов понимания того, почему именно возникла эта националистическая мракобесная волна, но есть и очень простой прием цитирования, когда цитата становится рифмой между разными временами и эпохами, указывая на совпадения или даже почти буквальное сходство.
Ряд утверждением Эрика Хоффера, в том числе в самой первой книге о наиболее типичной персоне массовых движений в первой половине 20 века, который довольно метко был обозначен автором как истинноверующий, вполне могут быть опробованы для идентификации нового правого поворота (после обрушения нацизма и большевизма в середине прошлого века), как типологически сходного. И, подчеркивая, что он не склонен безоговорочно осуждать тот или иной тип истинноверующего, Хоффер использует одно за важных свойств этого типа: это практически всегда (или почти всегда) неудовлетворённый собой и обществом тип социального неудачника, который интерпретирует свою неудачу не как личное поражение, а как несправедливость и бездушность. Бездушность и лицемерие сложившегося в обществе строя и мечту о его уничтожении и возрождении умозрительного, но прекрасного общества будущего. В котором все будет наоборот: последние станут первыми, неудачники станут победителями, а доминирующие в обществе лицемеры будут жестоко наказаны.
Хоффер не говорит об утопичности этих представлений, вообще не упоминает об утопии, как образе справедливости и будущего, которое как маяк противостоит малохольному, слабосильному и лживому настоящему. Но мы все равно можем закрепить это почти очевидное соответствие между теми, кто поддерживает наиболее мракобесные правые и националистические идеи, и их статусом неудачников, неудовлетворенных настоящим, но не похоронивших в душе мечту о прекрасном будущем.
В этом смысле, еще раз бросив взгляд на оказавшихся на вершине своих обществ правоконсервативных политиков типа Трампа, Нетаньяху, Путина и других, нельзя не заметить, что они в огромной степени отвечают социальным и интеллектуальным константам своих аудиторий, массе своих сторонников.
Если бросить взгляд на наиболее очевидный ряд совпадений, то нельзя не увидеть, что практически во всех обществах, где у власти оказались правые консерваторы, это происходило на выборах, в разной степени честных (скажем, более честных в США и Израиле, менее честных в Турции или Венгрии, где использовался так называемый административный ресурс, и совсем нечестных в той же России или Китае). Но что еще характерно, практически во всех обществах граница проходила по уровню образования, социальной успешности и месту проживания. То есть везде лучше образованные и социально успешные жители городов чаще голосовали за демократов/либералов, а жители деревень, поселков и малых провинциальных городов — за консерваторов. И здесь США или Турция ничем не отличаются, везде за консерваторов — условно говоря, деревня, за либералов — город.
Поэтому те качества поднявшихся на этой волне консерваторов-популистов, которые были обозначены как антиинтеллектуализм, опора на ложные или непроверяемые факты, отказ от политических приличий прошлой эпохи — есть почти дословный слепок с ожиданий их аудиторий. Аудитория Трампа или Путина никогда не поймает их на лжи, потому что, даже если это ложь, то это все равно не ложь, а политический прием, дискредитирующий не говорящего, а тех, против кого он направлен.
Сами правые автократы — выходцы из такой среды, где нет критериев проверяемости, корректности, если не академической, то родственной ей. Потому, например, все без исключения статусные частные университеты против Трампа и консервативного поворота, потому что уже их риторика интеллектуально невозможна, вызывает яростное возражением из-за своей ложности или мягко говоря — некорректности.
Но если вы обращаетесь к аудитории, для которая интеллектуальная корректность — пустой звук и признак лицемерной культуры, то все вроде как несуразные, невозможные и дискредитирующие говорящего высказывания получают совсем иную и позитивную коннотацию, как правда противостояния более важной лжи, хотя фактически является ложью, противостоящей корректности и проверяемости,
Когда-то у советской власти была мечта, как у Мартина Лютера Кинга, стереть различия между городом и деревней, которая именовалась характерным словом: смычка. И тем, кто жил в СССР, это казалось очередным проявлением социальной невменяемости, осталости советского общества. Но вот уже советского строя нет почти полвека, а конфронтация между городом и деревней продолжает быть актуальной для обществ, в которой призрак коммунизма и не ночевал, как тучка золотая на груди утеса-Трампа или Си.
Однако спор о словах, о котором говорил Бурдье, продолжает длить свою актуальность. Мы живем в облаке слов, из которого рифмой, как магнитом, достаем своих и отталкиваемся от чужих. Но то, что неудовлетворенные социальные неудачники-антиинтеллектуалы оказались доминирующей силой в разных и, казалось бы, не похожих друг на друга обществах, говорит о том, что редукция, упрощение вплоть до перемены знака и смысла слов — опять в фокусе.
А это позволяет представить, чем может кончится эпоха правого националистического поворота, ставшая мировым трендом. Тем, чем кончалось упоение национализмом и антиинтеллектуализмом раньше, частными победами, а затем неизбежными столкновениями между победителями. Потому что алчущие справедливого прекрасного будущего будут оставаться неудовлетворенными; оседлавшие эти волны автократы — кто угодно, но прежде всего — продавцы пустых слов, обманных трюков и некчемных обещаний.
Однако наивность их ядерного электората — замедленная мина под самими автократами. Отказываясь от найденных либералами способов канализации дурных и человеконенавистнических эмоций и желаний, они рано или поздно окажутся на суде своих сторонников. Оттянуть который можно очередным поиском виноватых, который всегда упирается в государственную границу. Не границу между городом и деревней, а границу как таковую. И чем дальше, тем ближе.