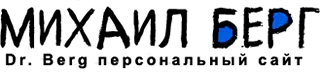На смерть Эрика Булатова
В мастерскую Булатова, а точнее, в их общую мастерскую с Олегом Васильевым меня привёл Алик Сидоров в январе, кажется, 1984. Мы приехали с Таней и Алешей в Москву на консультацию с невропатологом, которого нам нашла близкая приятельница Алика, Катя Климонтович, сестра Коли Климонтовича. Летом после того, как мы с Танькой впервые поехали на юг и оставили трехлетнего Алешу на попечение бабушек, он стал заикаться. И почти сразу сильно. Знакомых невропатологов у моей мамы-терапевта не было, а у Алика и Кати были, но в Москве, потому мы и поехали.
В этот день, о котором и рассказываю, мы с утра отправились на дачу Коли в Переделкино, там погуляли, поели, выпили; Алешка поспал; затем двинулись обратно, еще пару часов просидели в вокзальном ресторане. Алик и его хлебосольство не терпело половинчатости. Я, в том числе из-за ежедневной многочасовой работы и спортивных тренировок не пил столь много, но инерция вежливости заставляла соглашаться. И вот после ресторана, на электричке поехали в Москву, где разделились: мы в мастерскую Булатова и Васильева, Танька с Алешей поехала к дяде Юре, а порекомендованный нам в Москве ленинградский невропатолог стала нашим многолетним другом. И от заикания Алешу вылечила.
Я был с знаком с Эриком и Олегом, они несколько раз приходили на мои московские чтения и вместе с Ваней Чуйковым были подписчиками самиздатского издания ряда моих романов, в том числе «Момемуры». Проше говоря — давали деньги на работу машинистки, а взамен получали слеповатую машинописную копию.
До взлета их славы было еще несколько лет, но инструмент обретения этой славы присутствовал — это Алик и его совместный с Игорем Шелковским журнал «А-Я». Эрик, опять же с помощью Алика, продал пока всего несколько картин. В том числе одну из главных «Добро пожаловать» с фонтанами ВДНХ, которая висела у Алика дома в его коммуналке на Кировской. И хотя Алик заплатил за эту работу намного больше, чем стоили тогда эти работы, Булатов и Васильев были еще бедны. Эрик ходил по мастерской в синих трикотажных штанах с вытянутыми коленками и немного перед Аликом приседал.
Он показывал свои работы, Олег — свои, я задавал вопросы, на которые Эрик добросовестно отвечал, но, конечно, мнение Алика было для друзей-художников важнее. Помню, листаю какай-то альбом Васильева, Алик кивает головой, но относительно одного изображения поворачивается к Олегу с вопросом: ты думаешь, это работает? Олег что-то торопливо отвечал. Алик был такой большой начальник, добрый, но Карабас-Барабас, и это спустя эпоху, когда слава уже не будет зависеть от публикаций в «А-Я», ему аукнется.
Конечно, и Булатов, и Васильев были огромными явлениями даже на фоне продвинутой эстетики московского концептуализма. Булатов использовал тонкую щель между наивным советским неопримитивизмом и пропагандистским плакатом. Вся суть была в том, чтобы спровоцировать зрителя на это сравнение и сомнение, на мучительное желание понять, какой смысл в том, чтобы повторять в краске политические пропагандистские образы и штампы. Эта неоднозначность и обладала пространством для творчества. По известной формуле подмены перепроизводства товаров, которое спровоцировало западных концептуалистов на воспроизведение товаров и их упаковок вместо полей, лесов и рек, московские концептуалиста работали с советским перепроизводством идеологии. И этот слепок с советского мира, представленный с правильными комментариями и правильным узнаваемым безоценочным языком в «А-Я», способствовал почти мгновенному опознанию их арт-объектов западной сценой современного искусства как своих.
Но в тот январский холодный вечер, Эрик варил пельмени, которые не помню, чем запивали, возможно, опять водкой, но это был последний раз, когда я видел Эрика и Олега до обрушившейся на них мировой славы.
Потом мы тоже виделись, но это были уже другие люди; Олег все-также был более добродушным, последний раз я его видел за пару лет до его смерти на его выставке в Нью-Йорке, его водил по залу внук, поддерживая деда под руку.
Выставку Эрика в Питере в конце 90-х я помню, там было много старых, но и новых работ, которые мне нравились меньше. Как, впрочем, у всех московских концептуалистов центральным проявителем смысла стала советская эпоха и их работа с советской идеологией. Работы нью-йоркского, а потом и парижского периодов были как всегда остроумными и графически безупречными, но без советской идеологии перегрузки этим ветряным мельницам, кажется, не с чем было бороться.
Понятно, что для художника такого уровня и признания интересны любые его работы, которые можно выставлять и на них зарабатывать. Но я искал в них тот нерв, который был раньше в тонкой щели между советским пропагандистским плакатом и советским примитивным искусством, и не находил его. Хотя старался смотреть все его работы.
Но сделанного Булатовым за его андеграундный советский период, когда еще елись дешевые пельмени, запиваемые дешевой водкой и не стеснялись вытянутых коленок тренировочных штанов, достаточно для того, чтобы Булатов остался в истории российского и мирового искусства как один из самых остроумных новаторов. Его мысль, с виду такая простая и банальная, обладала способностью устраивать маленькие взрывы в мозгу, сигнализируя о достигнутом понимании. А это обладает возобновляемой и медленно проходящей ценностью.