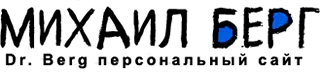Кошка под Дождем
Внесение Дождя и Важных историй в список иноагентов обозначило не только новый этап путинской реакции, но и очередной этап потери того, что можно обозначить в первом приближении как потерю различения нюансов (имея в виду пояснить в дальнейшем).
И это, казалось бы, естественный процесс — чем более усиливаются репрессии, тем явственней желание все сводить к полюсам: раз с одной стороны вполне кондовая русская власть, вроде как совсем потерявшая страх и, значит, как бы полюс зла, то все противостоящее ей столь же естественно стремится к полюсу добра. А это не совсем так (или даже совсем не так), но при этом похоже на то, что выше было названо потерей способности к различению.
Потому что как нет на самом деле никакого полюса абсолютного зла, даже в таком объекте как мерзкая путинская власть, так и нет никакого полюса сияющего добра в тех, кто этой власти противостоит. Потому что противостоят ей разные совершенно силы, противостоят по-разному (например, с разной степенью радикальности и риска), противостоят из разных побуждений и с разными целями.
Я это к тому крику о конце профессии и о запрете на профессию, который, как гулкое эхо, прокатился по просторам фейсбука, и не только. Что понятно, если исходит от статусных лиц Дождя, их преувеличенные и яркие метафоры позволительны по причине стресса. Но никак не меньший пафос был продемонстрирован и в эфирах Эха Москвы, что тоже на самом деле объяснимо: если так пойдёт дальше, Эхо будет следующим.
Ещё раз: объявление Дождя иноагентом, как ранее и вместе с ним других, это этапы репрессий, которыми власть готовит общество к эпохе бОльшей покорности и лояльности, но тем более не стоит терять способность к различению оттенков: пусть уже не серого, но серо-чёрного или черного, однако все равно оттенков, различение которых и есть, собственно говоря, культура.
Почему конец профессии или запрет на профессию случился с объявлением иноагентом Дождя, а не Медузы или Радио Свободы? Почему это произошло сегодня, а не вчера, позавчера или, не знаю, в момент разгрома НТВ или его разных видовых потомков в виде ТНТ или ТВ-6? Или переформатирования газет Коммерсант и Ведомости, от которых остались только названия? Чем один запрет или репрессия отличаются от других (а они отличаются, и это тоже правильнее фиксировать).
Отчасти это похоже на любимое изречение новых советских и постсоветских эмигрантов, которые живут себе, работают, потом решают эмигрировать и, уезжая, очень часто изрекают: пришла пора езжать. Или: да, здесь больше жить нельзя. То есть пока он жил и работал, все было более-менее, а как только решил свалить: все, жизнь здесь кончилась, нормальных людей не осталось. Осталось, не на одну ещё волну эмиграции хватит.
То же самое с Дождем: понятно, что для канала наступят сложные времена, но насколько сложные, зависит от власти, которая, быть может, только пугает и бьет по карману, а может, замысливает продолжение банкета и разорением не успокоится.
Но в любом случае, если не сваливать все в две кучи: кучу зла и кучу добра, есть смысл и возможность поразбираться в оттенках, в том числе оттенках тех, кто противостоит путинской власти и в эмоциональном порыве преувеличивает своё значение.
Да, Дождь — один из немногих игроков на либеральном поле российской журналистики, которое суживается всю путинскую эпоху, но одновременно с процессом сжатия, скукоживания, не менее отчетлив процесс переформатирования. Скажем, ситуация с разгоном НТВ тоже интерпретировалась в апокалиптических тонах, но более это была потеря не для журналистики, журналисты рано или поздно нашли себе новые места, это был страшный удар по обществу, которое не защитило НТВ и упустило возможность защитить себя. Однако появилось многое чего взамен — в том числе социальные сети и тот же Дождь.
Конечно, далеко не только провластная реакционная журналистика радовалась разгону «уникального творческого коллектива», те, кто с интересом или любопытством смотрел НТВ не могли не видеть партийности этого канала, который был вроде как за либеральное общество, но ещё больше за Гусинского и его интересы.
И здесь очень важная особенность журналистики в постперестроечную эпоху и вообще русского либерализма: принципиальное неразличение общих целей и частных. То есть понятное дело, раз речь идёт о либеральной журналистике, то цели или горизонты, взятые в самом общем виде, являются либеральными. Но это ничего не говорит ни о том, что именуется талантом или порядочностью того или иного журналиста, ни вообще о его приоритетах и пределах в готовности к компромиссу.
Да, если журналист работает на либеральном канале или в либеральной газете он воспринимается, как человек либеральных убеждений. Но это далеко не всегда так. Пример многочисленных перебежчиков из какого-нибудь МБХ в RT или того же НТВ и его «уникального журналистского коллектива» — яркое свидетельство того, что как только либеральному журналисту перестают платить на либеральном канале, он очень часто с лёгкостью находит себе место на канале реакционном и начинает с таким же жаром отстаивать новые убеждения, как отстаивал старые. Есть и другие примеры, когда либеральный журналист не соглашался идти торговать лицом на провластные каналы, а искал и находил себя на либеральном, но поменьше.
Ну, а если бы не нашёл, то что бы выбрал? Вопрос открытый. В любом случае журналистика — профессия, зависящая от оплаты, и либеральные каналы — игроки на коммерческом рынке, а не благотворительная организация из волонтёров, работающих для души или резюме. Прекрасно, когда можно совместить убеждения и зарплату, но это получается не всегда, и куда чаще в определённой пропорции первого и второго.
То же самое касается и владельцев или руководителей либеральных СМИ: каковы бы ни были убеждения, они имеют вполне определенные коммерческие интересы и играют на либеральном сегменте журналистского рынка, потому что полагают выше приведённую пропорцию вполне удобной или приемлемой для себя. Это не бросает тень на их мотивацию, это люди с убеждениями, которые пока еще не прошли окончательную проверку, хотя бы потому, что игра ещё длится.
Но стоит задать ещё один вопрос: а какова, собственно говоря, роль либеральной журналистики в ситуации нарастания репрессий и усиления реакции со стороны путинского режима? И здесь стоит сказать о некоторых иллюзиях, жертвами которых является именно либеральная журналистика и либеральные СМИ. В ситуации отсутствия реальной политической борьбы и политических партий, на либеральные издания переносятся ожидания, которым они не могут соответствовать, потому что они другие. Однако общество, у которого отняли политику и партии, вынуждено подчас упрощать себе жизнь и полагать те или иные либеральные издания как бы партиями и оценивать их соответственно. То есть требовать от того же Дождя или Эха Москвы именно что политического поведения, в котором не допускается отход от той или иной доктрины. И в случае расхождения с предполагаемой партийной линией на голову либерального издания сыпятся громы и молнии разочарования.
Скажем, главред Эха Москвы, человек действительно уязвленный апломбом и хамоватый, выбрал путь удержания на поверхности в виде совмещения на одной площадке людей не просто с противоположными мнениями, а мнениями неприемлемыми ни в одном из лагерей. Да, таких изданий нет в мире, именуемом свободном, в газете Нью-Йорк Таймс не могут публиковаться стать из Нью-Йорк Пост (как и в газете Вашингтон Пост статьи из Вашингтон Таймс). Но Венедиктов выбрал именно такую стратегию, и пусть она разрушительна для того состояния российского общества, убеждения которого ещё не прошли кристаллизацию, а соединение правды и лжи, информации и пропаганды — сомнительная тактика, Эхо Москвы не отвечает за претензии к нему, как к политической партии.
Это куда в меньшей степени касается Дождя, с куда более последовательной системой подбора экспертов и спикеров, хотя и там видны компромиссы и нежелание ссориться с сильными мира сего из путинской вертикали. Но и Дождь — не политическая партия. Однако помимо иллюзий читателей-зрителей-слушателей, есть иллюзии со стороны журналистов и редакторов, которые — в ситуации отсутствия политики и политических партий — вслед за потребителями информации тоже начинают ощущать себя политиками и лидерами общественного мнения.
Речь идёт о важном этапе неразличения, а именно: в ситуации многочисленных запретов и сужения области разрешённого, цена остаточно либерального, пока ещё остающегося в области разрешённого, начинает субъективно возрастать. И остающиеся либеральными в области ещё разрешённого становятся как бы мерилом и высшей мерой свободного мнения. Что, конечно, не так, но именно поэтому, как только граница разрешённого сужается, возникает апокалиптический пафос и крики о конце профессии.
Но эта не профессия кончается, это явственно близка граница области разрешённого и вашего бытования в ней. Но даже если вам не останется места в области разрешённого, как это случилось со многим и многими до вас, то изменится только рельеф этой области разрешённого, которая, конечно, не равна ни области того, что именуется свободой, ни тому, что понимается под общественными интересами.
Потому что даже в совке (не говоря путинской России с интернетом, новыми технологиями и соцсетями) область свободного высказывания и область разрешённого высказывания не совпадали; не совпадают и сегодня, и чем дальше, тем это различие больше.
Приведу несколько примеров. За месяц до отравления (то есть год назад) Навальный затеял принципиальный разговор о либеральной журналистике и ее месте в путинском обществе. Поводом послужила его нелестная характеристика арестованного журналиста Ивана Софронова, а затем его полемика с Иваном Голуновым, который не согласился с унизительными характеристиками Софронова Навальным, а последний в общем и целом обвинил журналиста в конформизме, что вызывало возмущение со стороны его видных либеральных коллег.
Что и понятно, хотя речь шла именно об этом: о несовпадении области свободного высказывания с областью разрешённого высказывания. Хотя свои аргументы были продемонстрированы с обеих сторон, важным является возможность подчеркнуть, что, с точки зрения политика, принципиально выбравшего не разрешённое пространство, а пространство, не ограниченное какими бы то ни было запретами или правилами, спускаемыми сверху, область разрешённого давно себя исчерпала и пытаться держаться за неё — личная стратегия каждого. Но это стратегия конформизма в большей или меньшей степени.
По сути дела речь и шла о различении в области того противостояния путинской власти, которое одним хотелось бы представить этаким полюсом добра и самопожертвования, а другим — всего лишь небольшой частью спектра от действительно радикального и отчетливого высказывания или политического жеста до разных форм компромиссов, одни из которых вполне оправданы и осмысленны, хотя до определённого предела, а другие обретаются в гамме оттенков серого, то есть откровенно конформистского и близкого к пропагандистскому в том или ином аспекте.
Совершенно естественна стратегия преувеличения значимости собственной позиции: то есть и радикальный политик увеличивает ценность своего радикализма, приуменьшая (и унижая) как саму область разрешённого, так и стратегии в ней обитающие. И точно так же поступает либеральный журналист, требующий ценить его тем больше, чем меньше возможностей остаётся в области разрешённого для либерального высказывания в ситуации с этой шагреневой кожей.
Отчасти к этой теме по касательной примыкает недавний спор между А. Подрабинеком и А. Мальгиным, хотя там речь шла об эпохе не настоящей, а предыдущей, советской, но спор был о том же самом. О ценности высказывания и поведения в области разрешённого и области свободного высказывания за пределом какой-либо цензуры. Мальгин, опираясь на свой опыт работы в либеральной Литературной газете утверждал, что ценность опубликованных в ней либеральных статей, пусть не имевших возможность критиковать принципиальные вещи, была огромной и определяющий. В то время как Подрабинек возражал, что вся эта советская либеральная интеллигенция выполняла роль штрейкбрехеров в ситуации отсутствия свободы и только имитировала ее.
Сам эмоциональный характер этих дискуссий, касающихся советского или постсоветского общества, есть прискорбное свидетельство неразличения в современной русской культуре разнообразных нюансов — политики и журналистики, ценности разрешённого сверху или существующего вне всякого разрешения, оппонирование на зарплате или на свой страх и риск. А ведь речь идёт именно что о проблеме общественного зрения, общество, не уверенное в ценностях того, что именуется свободой, готово принимать за неё различные эссенции и полуфабрикаты.
Я вот тоже помню, как когда-то, когда я только делал первые шаги на литературном поприще, один поэт, уже тогда с большой либеральной известностью, а сегодня-таки просто последний из либеральных могикан, сказал мне: «Написать стихи или прозу — половина дела, вторая — их опубликовать». Я, смотревший на советскую жизнь как на чумной барак, ничего ему на это не ответил из вежливости. Но, если посмотреть честно, так уж ли много изменилось за эти почти полвека?