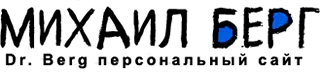Ум, поделенный на самоуверенность или скромность
Так как есть рейтинг стран по уровню ВВП, а есть ВВП по паритету покупательной способности, то есть как бы ум и ум по паритету самомнения. Это если в числителе проставить ум (то, что его измерение почти всегда фикция, опустим), в знаменателе — самомнение, то ум самоуверенного и самовлюбленного во много раз меньше, чем ум человека скромного.
Чисто психологически это понятно: от скромного и даже стеснительного мы из-за инерции не ждем ума, а когда ум явлен, его восприятие усиливается от априорного неверия в него; потому что скромность это что-то меньше, чем единица (если единица — это такое неустойчивое равновесие между скромностью и самоуверенностью). А ум человека неприятно самоуверенного делится на его самоуверенность, так как нам еще надо потратиться на компенсацию психологических потерь от лицезрения агрессивной самоуверенности, отчего ощущение ума кратно уменьшается.
В принципе об этом, например, Моцарт и Сальери Пушкина. Здесь вместо ума — талант (что вроде как близко, а на самом деле очень далеко от ума, я встречал очень талантливых и совсем вчуже неумных). А вместо самомнения — типа, злодейство, хотя злодейство — это почти всегда глупость, ибо раз его так идентифицировали и запомнили, значит, у его обладателя не хватило ума это скрыть или выдать за другое.
Хотя в реальности все еще сложнее: самоуверенность порой не только уменьшает ум, но и увеличивает его по женской формуле: такому зануде легче дать, чем объяснить, почему ему давать совсем не хочется. Самоуверенный подчас подавляет своей самоуверенностью и не позволяет оценивать его объективно, потому что страшно или неприятно очутиться под напором его катка. Но рано или поздно (как бывает и с авторитарными государствами) самый суровый режим рушится. То есть перед тем, как обрушиться, он вроде как всех подавил, заставил считать себя умным, несмотря и даже благодаря самоуверенности, но сколько веревочка ни вейся — всегда наступает пора, когда ум делится на самоуверенность, демонстрируя голое платье короля. И вместо гения, каким его так долго почитали, появляется скучный злодей, и здесь конец куплета.
Короче, психология лучше всего работают там, где она почти институционально выведена за скобки. Авторитарные порядки препятствуют критике, делая ее опасной и затруднительной. В условиях отсутствия критики троечники задирают нос и занимают места умных отличников, но проходит эпоха, и та же психология, которая вознесла недоумка до небес, позволяет, перефразируя Розанова, слинять за три дня тому, что претендовало на вечность.
Поэтому мнемоническое правило: не родись красивой, а родись счастливой — о том же самом. Красота — из того же лукошка, что и ум, но не гарантия счастья. Более того, предположение, что ум может рифмоваться с горем, не лишено оснований, так как от него одна порой морока. Особенно если вокруг авторитарная хрустальная ночь массовой культуры, и счастье — это психология, подменяющая собой объективную реальность (которой не существует, потому что существует психология).
Но все равно ум по паритету покупательской способности всегда меньше ума по ВВП (или гамбургскому счету), потому что мы не столько не любим тех, кто умнее нас, мы просто не понимаем то, что выше нашего разумения, и полагаем это в равной степени несущественным и несуществующим. То есть глупый справедливо считает, что не глупей умного, потому что разница для него выпадает в осадок и просто не учитывается. Поэтому и говорят о триединстве истины, добра и красоты, что никакого ума здесь нет, ибо для оценки чего бы то ни было, нужно смотреть не только со стороны, но и сверху, что практически невозможно, а можно только спросить: а судьи кто? А в ответ тишина, потому что это не только ум, поделенный на самоуверенность, но и красота, поделенная на истину, ибо красота точно также субъективна и похожа на среднее арифметическое по популяции, потому красивая ирландка будет уродиной в Китае и наоборот.
Не случайно прототипом Сальери возможно был Баратынский с его якобы завистью к Моцарту-Пушкину, но однажды, когда лет тридцать лет назад мы просидели ночь у финского костра вместе с Бродским и Кривулиным, то они, кажется, не могли согласиться ни в чем, кроме того, что Баратынский (как бы) выше Пушкина, с этим оба были согласны. Но спорили об эпитете, более приличествующем поверхностному представлению того, кто считал, что дар его убог и голос мой не громок — хороший (по версии Бродского) или роскошный (по мнению Кривулина). И мы опять сравниваем скромность и самоуверенность, то есть делим ум на его психологическое восприятие, что и завершает композицию.