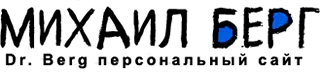Мераб Мамардашвили и замкнутый круг русской истории
Литературная газета
Россия на переломе. Сколько раз уже это было. Сколько раз казалось, что тоталитарное прошлое позади и демократическое будущее неотменимо. Однако проходило время, и заманчивый образ «просвещенного авторитаризма» начинал смущать умы. Отчего демократия так трудно находит себе применение на российских просторах? В чем причина постоянных рецидивов тоталитаризма? Каждый раз после очередной «победы демократии» (казалось бы, реальной в августе 91-го или мнимой в октябре 93-го) наиболее отчетливо были слышны те, кто уверял, что все самое страшное кончилось и свобода вот-вот восторжествует на многострадальной российской земле.
И голоса скептиков воспринимались как досадный диссонанс, неважно, откуда они исходили — из среды деморализованной оппозиции или вечно сомневающейся интеллигенции. Нельзя загонять реально существующий конфликт вглубь, говорили одни. Опасное упрощение и ошибка, вторили им другие, сводить причину противостояния только к попытке реванша консервативно-коммунистических сил, действительно поддержанных русскими фашистами. Можно объявить вне закона партии и закрыть националистические газеты, но нельзя отменить реальность (и обоснованность) протеста той, и вероятно, отнюдь не малочисленной части общества, которая не принимает «нового пути» России в обмен на социальные лишения и чувство национального унижения, вызванное развалом государства. Страшно не то, что оппозиция, загнанная в подполье, выйдет однажды из него полная сил. Важно не забыть о тех социокультурных стереотипах, на которые при случае сможет опереться непримиримая оппозиция. Как и понять, почему мы постоянно падаем в одну и ту же яму, делаем одни и те же ошибки.
Мераб Мамардашвили, один из самых значительных мыслителей, рожденных советской эпохой, ушел из жизни до августовского путча, до периода смутного времени, которое приобрело новые очертания в связи с октябрьскими событиями 1993-го и выборами 12 декабря. Однако вышедшая незадолго до смерти Мамардашвили книга его статей и интервью полна точных и порой едких пророчеств, исполняющихся на наших глазах. Метафизическая емкость этих мыслей и неожиданный остроумный ракурс его взгляда на трагическую повторяемость русской истории, его рассуждения о смысле культуры, свободы, «русском характере» делают Мамардашвили незаменимым собеседником для всех тех, кому небезразличны исторические параллели.
Русская история действительно щедра на повторения — тем, мучительных, неразрешимых вопросов, исторических коллизий. Мы все время ищем и находим соответствия: одни времена кивают на другие, современная политическая ситуация уподобляется некогда уже бывшей. Перестройку, начавшуюся в 1985-м, сначала сравнивали с реформами Александра II и Петра I. Двоевластие и смутное время, естественно, были похожи на все смутные времена, которыми так богата российская история. А результаты выборов 12 декабря некоторым напоминают конец Веймарской республики и период между февралем и октябрем 1917-го года, когда антидемократический переворот был поддержан, конечно, не только большевистскими боевиками и люмпенами, но и значительной частью социально обделенного населения и коммунистическая идеология стала цементом, скрепляющим многие разнополярные политические силы.
Да, смутные времена, лакомые для авантюристов разных мастей; бунт, «бессмысленный и беспощадный», который обычно сменяется периодом нового деспотизма и нового рабства, — триада наиболее устойчивых состояний российской государственной жизни. Настолько часто за последние несколько столетий повторяющийся цикл, что невозможно не задаться вопросом: в чем смысл этих повторений? И одновременно — как выйти из порочного замкнутого круга?
Еще несколько лет назад размышления Мераба Мамардашвили о культуре, гражданском обществе, влиянии прошлого на современную жизнь могли показаться абстракциями, лишенными актуальности. Однако неумолимый ход событий последних лет заставляет вернуться к знакомым страницам и увидеть «неслучайность» именно такого поворота истории, который, как полагал философ, был следствием свободного и осознанного выбора. «Незавершаемость опыта — отсюда вся тягомотина дурных повторений и бесконечных адовых мучений, — написал Мамардашвили во второй половине 80-х годов. — Когда <…> нужно жевать один и тот же кусок, — это и есть Россия XX века. Гений повторений буквально разгулялся на российских просторах, как в дурном сне. А это значит, что, как и 150 лет назад, в свое время не был завершен опыт… Смыслом и сутью наказания в действительности является тут не физическая жестокость, а повторение»1.
Возможно, это и мучает сегодня человека на российских просторах. Без всякой радости была воспринята победа над «силами реакции» в октябре. С каким-то тягостным чувством причастности к муторному, дурному сну воспринималось происходящее даже теми, кто в первую очередь пострадал бы, приди к власти красно-коричневые. Липкое чувство стыда за бестолковое, беспомощное поведение властей и ощущение какой-то фальшивой, ненастоящей жизни, которая опять отнесена в будущее, а в настоящем один бесконечный и длящийся черновик. Да, легко осудить рвущихся к власти партократов и националистов, но что можно ответить тем, у кого уже нет сил выносить экономические лишения, психологическую и политическую нестабильность. Потому что, как ни прискорбно, они ничего не выиграли, а только проиграли от политических изменений. И опять им в очередной раз предлагается то же самое, что и раньше, — ждать. Ждать и надеяться на лучшее. Терпеть и верить в мудрость государственных мужей, способных обеспечить закон, порядок и устойчивость государственный жизни.
«Страну, в которой мы живем, — продолжает философ, — я бы назвал страной вечной беременности. Ведь это действительно адское состояние: никак не разрешиться от бремени. Или все разрешаться и никак не разрешиться… Почти через сто лет, когда появилась “Черная сотня”, мы снова имеем дело с той же раскладкой политических сил и возможностей: большевики и “патриоты”. Значит, где-то в чем-то люди не дошли до конца, не меняли радикально саму почву проблем <…> Это изменение почвы и означает перерождение. И тем самым разрешение от беременности. Иначе все будет оставаться в состоянии добронамеренности»2.
Несколько лет ушло на попытку разрешить вечный спор между западниками и славянофилами о «пути России». Одни кивали на Запад, другие говорили о верности прошлому. Для одних идол — индустриальная Европа, для других — патриархальная Россия ХIХ века. Страна постоянно возвращается в одни и те же ситуации, натужно пытается дать ответы на одни и те же вопросы, вызывает одни и те же надежды, затем, обессиленная, срывается, падает в бездну рабства и нигилизма, начинает мечтать о «светлом будущем», равенстве, братстве. И все начинается по новой.
Как разорвать череду бессмысленных закономерностей, почему нам не помогает «великая русская культура», не спасает православие, неожиданно попытавшееся стать политическим миротворцем? Почему даже то, что свалилось на голову русского человека даром, — свободу, он не может использовать себе во благо? Может быть, потому, что свободу нельзя получить из чужих рук, а прежде чем говорить о русской (или любой другой) культуре (и почему она не помогает нам устроить жизнь как следует), надо точнее определить, какое именно место она (культура) занимает в обществе.
«Исторический опыт показывает, — читаем мы у Мераба Мамардашвили, — что культура не есть совокупность высоких понятий или высоких ценностей. Она не есть это хотя бы потому, что никакие ценности, никакие достижения и никакие механизмы не являются в данном случае гарантией. С любых высот культуры можно всегда сорваться в бездну <…> Хаос и бескультурье не сзади, не впереди, не сбоку, а окружают каждую историческую точку. Так же как в математике рациональные числа окружены в каждой точке иррациональными числами»3.
Прошлое не спасает, потому что жизнь — это путь по трясине: почва из-под ног может уйти в любой момент. И не только у человека, но и у страны. И, словно подтверждая сказанное, Россия с унылой закономерностью все срывается и срывается в хаос и бездну, демонстрируя удивительную для многих слепоту. Хочется подправить, помочь, предостеречь, что и делали великие русские писатели, — их носили на руках, ими восторгались, гордились, но жизнь шла своим чередом, будто отделенная от великих предшественников и прозорливых современников прозрачной, но непреодолимой преградой. Потому что культура — это конкретное усилие конкретного человека. Усилие, состоящее в стремлении реализоваться здесь и сейчас. Не полагаясь на внешние обстоятельства, а исходя из соображений конкретной социальной реальности и неповторимой человеческой судьбы.
Что такое пресловутое русское «авось»? Это вера в естественное течение событий. Недаром Руссо с его культом «естественного человека» так пришелся впору в России, став одним из кумиров российской интеллигенции. Упование на мудрую природу человека, вера в то, что человека надо только освободить от «неестественных» и несправедливых законов (дав ему взамен естественные и справедливые), после чего все само устроится, ибо «человек создан для счастья, как птица для полета».
Но вот «добрая» демократическая власть сняла множество из действовавших почти три четверти века запретов, и на волю из тьмы несвободы вышел не «новый свободный человек», о котором так долго мечтала великая русская литература ХIХ века, а человек разочарованный, усталый, не верящий никому и ни во что, потерявший почву под ногами и остатки былых ценностей. И опять на страницах газет и журналов замелькало знакомое слово — «нигилизм».
«Нигилист, — замечает Мераб Мамардашвили, — это человек, потерявший свое “лицо”, утративший способность мыслить и мочь. То есть, другими словами, полагающий, что существует некий самодействующий механизм (будь то механизм счастья, социального устройства, судьбы и т. д.), который так или иначе, но обязательно определяет или “вмешивается” в его жизнь».
Самодействующий механизм — это и есть «естественный порядок вещей». То самое недоверие к форме и тяга к бесформенности, безыскусности, искренности, которые сами по себе якобы способны обеспечить нормальную, справедливую жизнь.
Для российского традиционно асоциального сознания чем ближе к природе, тем больше свободы. Свобода в русской культуре стала синонимом «естественного состояния» («Рожденная свободной» — название некогда популярного фильма). Однако «родиться свободным» невозможно. Естественным, генетическим путем передаются только механизмы, рефлексы, а Мамардашвили, опровергая самые устойчивые догмы, утверждал, что свобода — это как раз «искусственное», неорганическое явление, которого нет в природе в чистом виде. Свобода для него — результат сознательной культурной деятельности, останавливающей хаос и небытие. Природа не враждебна культуре, она просто нечто иное.
«История, культура, мысль — все это неприродные образования, поскольку они основаны на одном неприродном или “искусственном” явлении, которое называется свободой <…> Природные же явления не знают свободы, и в этом смысле свобода — неприродное, неестественное явление. Отсюда следует, что не может быть естественных механизмов свободы. Если есть механизмы — нет свободы, а если есть свобода — то это некий неприродный элемент»4.
Недаром синонимом свободы в русской истории стало слово «воля», которое Даль определяет как «данный человеку произвол действий; отсутствие неволи, насилования». То есть не положительное, а отрицательное понятие, заключающееся не в присутствии, а в отсутствии формы жизни. В то время как свобода — это как раз точная и определенная форма участия человека в осуществлении собственной судьбы, чувство ответственности за нее перед самим собой и обществом.
Уже не раз упоминавшаяся страсть к поиску виноватых, уверенность, что стоит только сокрушить невидимых врагов, и жизнь станет прекрасной? — что это, как не извечный русский отказ от ответственности, усилия, которое постоянно перекладывается то на государство, то на общество, то на естественное течение событий? И заменой живых форм жизни становятся верность традициям, установлениям прошлого, привычным схемам жизни, которые невозможно опровергать, потому что они достались нам по наследству. Тяга к прошлому и идеализация его — не что иное, как попытка переложить ответственность теперь уже на предков. Но прошлое далеко не так безопасно, как это может показаться, «потому что оно, — пишет Мамардашвили, — часто бывает набито непереваренным и не пережитым прошлым»5. Здесь исток хрестоматийной инфантильности, незрелости, несамостоятельности гражданского чувства русского человека. И одновременно причина бесконечных повторений, порочного замкнутого круга, из которого все не выйти новейшей российской истории.
Вспомним многочисленные споры о сущности русской духовности. То говорят о загадочности, таинственности, неописуемости русской души. То определяют русский менталитет как «семейно-психологический», в отличие от, скажем, «индивидуально-психологического» французского, английского, немецкого менталитета. Мол, русский человек больше похож на испанца, итальянца, японца, чем на американца или ирландца. В то время как другие обозначают русский менталитет как особую разновидность семейно-психологического образа жизни, лежащего в области детско-родительских отношений, где роли строго распределены: женщина — символическая мать, мужчина — символический сын. Мать — это не только женщина, но и держава, родина, государство, сын — не только мужчина, но и гражданин. Сын ждет от матери помощи, поддержки, заботы, вечно кормящая мать строга, любвеобильна, требовательна, ревнива, воспитывает ребенка без отца. Детско-родительские отношения (точнее, материнско-сыновние — так их определяет Карина Гюльазизова) пронизывают не только культурно-политические связи, но и сексуальные. Инфантильность исторически культивируется, представляя собой наиболее устойчивую модель поведения, для которой естественной средой обитания становится не индивидуалистический Запад, а вечно юный Восток. Об этом же пишет Мамардашвили, утверждая, что «как Запад не является географией, и Восток не является географией — это указание на некоторое вечное состояние <…> Запад — это совершеннолетие», а «незавершенная юность символизируется Востоком»6.
Инфантильное сознание легко отказывается от свободы (как, впрочем, и от ответственности) в пользу вечной спеленутости, существования в коконе догматизма. Никакая демократия, парламентаризм, рынок, предполагающий конкурентное перераспределение ценностей, невозможны в ситуации, в которой доминирует детско-родительская модель поведения. Эта модель подминает под себя любые благие намерения, делая их фиктивными и неработающими. Можно вводить любые законы, принимать соответствующую моменту Конституцию, поддерживать частное предпринимательство, но все новые институты оказываются построенными по старому принципу детско-родительских отношений, которые не поддаются изменениям сверху, пока ребенок не вырос. Как бы он ни бунтовал против родительской власти, как бы ни изображал из себя взрослого, он — дитя. Когда умное, мечтательное, гениальное, когда хамоватое и раболепное, но неизменно — инфантильное.
Вся русская история — история существования инфантильного сознания, удивляющего окружающих своими способностями, идеями, мыслями, но не способного созреть, стать на ноги, жить самостоятельно. Принципиальная и оберегаемая традициями незрелость — основа и хрестоматийного русского коллективизма, который есть не что иное, как детская солидарность в огромной и бедной семье, и обостренной духовности в виде догадок, мечтаний, прозрений и раздумий о взрослой жизни, том самом будущем, которое никогда не наступает.
Уже в ХIХ веке писалось о сходстве биологических и исторических ритмов. Подавать надежды и радовать родителей принято в детстве, но так и не наступающая взрослая жизнь приводит в конце концов к отмиранию какой-то части души, к своеобразному перерождению, которое прежде всего проявляется в принципиальном отказе от своей личности. Деспотизм, с одной стороны, и рабство, с другой, — не что иное, как две стороны детско-родительской модели поведения. Многих исследователей поражало и поражает до сих, с какой силой представители русской мысли упрекали собственный народ во всевозможных грехах, оставаясь при этом далеко не равнодушными к его судьбе. Упреки в слабости, безволии, отсутствии привычки к систематическому труду и чувства гражданской ответственности, в неустойчивости суждений, склонности к увиливанью, простодушной хитрости, лукавству и т. д. — это на самом деле полный список упреков, которые взрослые адресуют своим любимым, но никак не могущим повзрослеть детям.
«Герцен когда-то, в сороковых годах XIX в., говорил, — пишет Мамардашвили, — что еще лет сто такого деспотизма, и мы потеряем лучшие черты русского национального характера. Эти сто лет прошли, и я должен сказать, что во многом это предсказание сбылось. Почему? Потому что мысль его состояла в том, что никакой национальный характер не может сохраниться и существовать в своих лучших качествах без действия личностных начал в общественной жизни»7.
Для Мамардашвили в этом состоит самая страшная и реальная катастрофа нашего времени. «Я имею в виду катастрофу антропологическую, т. е. перерождение каким-то последовательным рядом превращений человеческого сознания в сторону антимира теней и образов, которые, в свою очередь, тени не отбрасывают, перерождение в некоторое зазеркалье, составленное из имитаций жизни. И в этом самоимитирующем человеке исторический человек может, конечно, себя не узнать».
Те проблемы, с которыми сталкивается современная Россия, не решаются на уровне экономики, политики, борьбы правых и левых, коммунистов и демократов, решение лежит в глубине души каждого конкретного человека. Сможет ли Россия сбросить с себя ярмо детской модели поведения? От этого зависит ее будущее, для которого луч неожиданной и пронзительной мысли является порой восхитительным катализатором.
«В сущности же, — пишет Мераб Мамардашвили, — в основе всегда лежит волевое усилие, осуществляется выбор между свободой и несвободой, поскольку несвобода — тоже результат выбора. Рабство выбирают свободой, данной каждому человеку. Если человек — раб, значит, таков его выбор, он сам так решил»8.
Да, Россия опять на переломе, но какой вариант развития окажется предпочтительным, зависит не от политических игр, а от самого общественного выбора. Именно этот свободный выбор, осуществляемый не раз в несколько лет у избирательных урн, а каждодневно, постоянно, в рамках индивидуальных социальных стратегий, определит — созрел ли русский человек для свободы или он, как это было уже неоднократно, опять откажется от нее в пользу сонного, безвольного существования под покровом сильной и безапелляционной власти? Ответ именно на этот вопрос и определит ее жизнь в грядущем тысячелетии.
1 Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1992. С. 398.
2 Там же. С. 372.
3 Там же. С. 144.
4 Там же. С. 393.
5 Там же. С. 330.
6 Там же. С. 337.
7 Там же. С. 207.
8 Там же. С. 341–342.
1994 г.