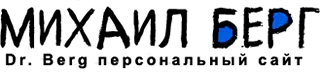О жизни у последней черты
Точно не помню, но почти наверняка во второй половине 70-х кто-то из наших приятелей привел к нам в гости двух молодых попов или слушателей православной академии, точно уже не помню. Симпатичные современные ребята, выпивали с нами, трапезничали, слушали оперу Иисус Христос – суперстар, танцевали. На лацканах их вполне современных пиджаков были маленькие золотые крестики, подарок патриарха. Танька отнеслась к ним с очень большим интересом, с какой-то внимательностью искреннего любопытства вглядывалась, пытаясь понять, обращалась с ними так, будто они были очень хрупкими, хрустальными или немного опасными. Это было до рождения Алеши, до его крещения вместе с дочкой художника Юры Дышленко, который стал крестным нашего Алеши. А потом, когда они ушли, с легкой опаской в голосе сказала, когда мы остались наедине: и зачем молодым мужчинам подвергать себя таким ограничениям, ведь это все естественно, да и радость, которой не так и много в нашей жизни. Это она о половом инстинкте.
Понятно, что во второй культуре, особенно в ее ленинградском изводе с доминированием интереса к православию, общение со священниками стало привычным. И не случайно, когда мы с Мишей Шейнкером задумали наш «Вестник новой литературы» (в самом названии читалась рифма с эмигрантским «Вестником русского христианского движения») уже в первом номере появились весьма важные для нас «Записки попа». Но не отца Василия, это был псевдоним, а отца Арсения, священника церкви на Среднеохтинском кладбище. И это были не записки, не воспоминания, а интервью, отец Арсений сидел у нас за столом в течение нескольких вечеров и бражничая наговаривал на магнитофон ответы на мои вопросы, которые я же потом превратил в связный рассказ.
Я это вспомнил, потому что не всегда точно понимал, как Танька менялась во время жизни со мной. То есть первую, условно русскую часть жизни (хотя это была не половина, а две трети), она была как бы более покладистой, хотя норов все равно показывала, и свои слабости защищала с большой силой. Но видимым образом поддавалась влиянию, особенно в тех областях, где не чувствовала себя уверенной. Помню, уже после переезда в Америку, пока мы жили в Нью-Йорке, к нам в гости приехала наша давняя российская приятельница Женька Лифшиц, ставшая в Америке православной монахиней. Я о ней уже несколько раз упоминал. Но я вот о каком феномене: помню, мы выходим из нашего дома в Бруклине, в итальянском Бенсанхерсте, и Женька крестится, и смотрю, моя благоверная тоже крестится вместе с ней. Дело было не в том, что она была с детства крещенной, естественно отмечала и Рождество, и Пасху, а в том, что порой автоматически повторяла действия авторитетных для нее людей. С Женькой у нее были хорошие отношения, и она, наверное, уважала ее за стойкость и выбор не самого простого и очевидного пути.
Здесь я хотел бы сказать, что, конечно, оказывал на Таньку влияние, но не пытаясь ее как-то переделать особым образом, а просто тем, что говорил, на что-то откликался, и таким образом оказывал воздействие. Помню совершенно в другую эпоху Боря Останин, говоря о влиянии на женщину и ее литературные вкусы, заметил, что оказывать акцентированное давление не женщину опасно, потому что они и так слишком переимчивы, и, не зная подчас собственных предпочтений, подменяют их чужими и более авторитетными. Но на самом деле при близком ежедневном общении очень трудно сохранить дистанцию, которая, может, и необходима, но трудно достижима.
И, однако, с течением нашей американской жизни я все чаще отмечал, что в Таньке проходит какая-то внутренняя работа, она чаще дистанцировалась от меня, чаще высказывала свое мнение, потому что ощутила большую независимость, которую женщины имели в Америке, и это на нее тоже влияло. Но я начал со знакомства с двумя слушателями православной академии, потому что хотел еще раз подчеркнуть, что далеко не всегда наши убеждения проходят проверку на истинность. Я прекрасно знаю, что многие проходят к вере именно во время болезней близких или своих, или тяжелых переживаний от смерти тех же близких или расставании с ними, и Танька на моих глазах проходила эту проверку.
Решающим здесь, возможно (если я не упрощаю), оказалась то, что ее родная младшая сестра, истово православная и при этом далеко не златоуст, девушка, а потом женщина довольно простодушная, хотя и не злая, особенно после смерти Зои Павловны, их мамы (очень отрицательно относившейся к православному восторгу Наташки), стала немного таким ментором. И в разговорах со старшей сестрой пыталась ее как бы подвигнуть к вере, которая у нее очень часто оборачивалась идеологией духовного русского преимущества в русле официозного движения. Это так Таньку раздражало, что она вместе с раздражением против дурацких нравоучений младшей сестры и ее же нарастающего антиамериканизма, обретала уверенность, что вера – это манипуляция, самообман и обман – вне зависимости, понимает ли это человек или нет.
Понятно, она отличала ту же нашу монашку Женьку, которая просто была намного умней и образованней, но к тому моменту, когда Танька заболела, причем стремительно и ужасно, она постоянно подвергалась сначала осторожному, а потом все более массированному давлению со стороны капелланов в больнице или священников разных конфессий. Потенциальному давлению, потому что Танька несмотря на то, что ей становилось все хуже и хуже вплоть до своих последних дней, с энергичным протестом отвергала попытку просто даже поговорить с человеком, представившимся ей как служитель церкви или просто психотерапевт. При этом я и не думал оказывать на нее какое-то давление, напротив, если бы она захотела поговорить с кем-то о своей душе или жизни после смерти, я бы и слова против не сказал бы. Но она была совершенно непреклонна, как бы она себя не чувствовала, она, спокойно глядя собеседникам в глаза, говорила, что — атеистка, в загробную жизнь не верит и не желает на эту тему говорить.
Быть таким рекламным атеистом легко (или легче), когда ты далек от последней черты, но когда эта черта проводит всю углубляющуюся тень на твоем лице, быть непреклонным и уверенным в себе куда как труднее. Я все последние месяцы всматривался в нее, все с большим удивлением отмечая в ней ту силу, о существовании которой даже не подозревал. Она же была не настырной, не задиристой, но с течением времени стала куда с большим тщанием подбирать слова, она явно думала прежде, чем сказать что-то. И стала несравнимо более отчётливой, нежели была когда-то, когда мы только поженились, и принимали у себя еженедельных гостей. Я видел, как она стала спокойнее и отчетливее говорить и писать, у нее вырабатывался какой-то новый лапидарный стиль письма.
В последний месяц, когда ей стало совсем плохо, она перестала отвечать на письма и эсэмэски от близких подруг, и когда я предлагал, давай, я напишу им, неудобно не отвечать, она говорила: станет получше, тогда и отвечу. Наговори, я запишу – предлагал я: нет, я сама, когда придет время. Время не пришло, но она была точной и отчетливой до последнего мгновения – ни разу не испугалась, ни разу не запаниковала, ни разу не потеряла своего лица. Мне, возможно, было бы даже легче или понятнее, если бы она обнаружила свою слабость, более чем естественную в такой ситуации. Но нет, до последнего вздоха – спокойная отчётливость и выдержка.
Конечно, ей было нелегко со мной, я говорил и формулировал намного быстрее, больше читал, и, значит, невольно или вольно подсказывал ей ответы, которые она искала. Но она молча принимала их к сведению, и шла своей дорогой. Она была готова к длинной и большой жизни, она не сломалась, она была сильнее, намного сильнее, чем я думал и, скорее всего, сильнее меня. Потому что быть сильным в сильной доминирующей позиции куда как проще, чем сохранить силу и присутствие духа, когда твоя жизнь летит под откос.
Но в том-то и дело, что она не ощущала свою жизнь летящей под откос, она была готова сражаться и сражаться, преодолевая свою болезнь. Я уже приводил ее последние слова, сказанные в конце дня 31 декабря перед тем, как мы с женой Алеши Милой уходили после ее последнего дня, проведенного в сознании. «Все болеют, все поправляются». Она так формулировала себя в последние мгновения ее сознания, она так позиционировала себя в ситуации тяжелой болезни. Она не стелила соломку и не хваталась за соломинку, она просто и честно смотрела в лицо жизни, которая оказалась к ней столь сурова.
Сильная моя девочка, сильная и умная, и главное – растущая и меняющаяся в зависимости от этапа своей жизни, которая, получается, проходила не впустую, не зря. Моя дорогая, моя единственная, мой дыхательный аппарат: тебе бы жить и жить, чтобы меняться и оставаться собой. Но судьба повелела иначе, и нельзя было с большим достоинством принимать ее беспощадные удары. Смелая моя, моя девочка.