
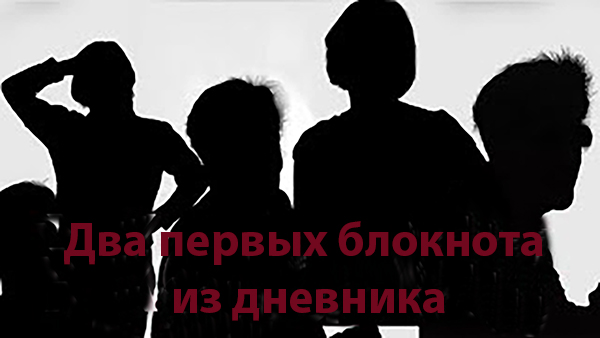
Два первых блокнота из дневника
Я прочитал первые два блокнота дневника моей Тани, и я, кажется, не читал ничего более мрачного и страшного. Есть, конечно, мрачные готические романы, фильмы ужасов, которые мы не смотрели, но они рассказывают о чужой и выдуманной жизни. А Танька пишет о нашей жизни, своей и моей, и пишет так, будто кто-то вылил на нас сверху несколько ведер дегтя, а вдобавок — мелкого вонючего мусора из контейнера.
И при этом я очень хорошо помню то время, которое она описывает. Я только что получил позицию в Гарварде, мы переехали из Нью-Йорка в Сомервилл, соседний с Кембриджем городок, где квартиры были немного дешевле. Алешка зачем-то снял нам квартиру в доме на холме, якобы, чтобы мы больше гуляли, если ехать на машине, то все равно, если гулять, то вспотеешь поднимаясь. Я еще мог, Танька от подъема вверх отказывалась наотрез. Сам Алеша снимал комнату в Кембридже и давно приучил себя к дальним прогулкам.
Вот экспозиция. Мы полтора года прожили в Нью-Йорке, жили вообще-то, как туристы, то есть я что-то писал, как всегда, мы пошли на отделение Бруклинского университета для улучшения языка, нам очень многое нравилось в Нью-Йорке, но от эмигрантских тягот это не освобождало.
И все-таки в Нью-Йорке Таньке было легче, чем мне. По крайней мере, мне так казалось, это я, переплыв океан, потерял все, что имел, работу, статус, привычный образ жизни. Таньке по идее должно было быть легче, и я думаю, что ей было действительно немного легче, чем мне, но, может быть, потому что она не писала дневник?
Она начинает писать в свой первый блокнот, спустя пару месяцев после переезда в Сомервилл, и то, как она описывает нашу жизнь, вызывает содрогание. Да, мы, как эмигранты, делаем много ошибок, особенно я, потому что у меня гиперактивность, у меня всегда была проблема с избытком энергии и, чтобы ее растратить, я постоянно что-то делаю, пишу, читаю, фотографирую бездомных, покупаю разные вещи, компьютеры, разные прибамбасы и подчас попадаю впросак.
Так я, даже не представлявший, какое в Америке количество мошенников и какие изощренные способы надувательства они используют, заплатил за ноутбук, как теперь помню, Sony, и послал за него деньги с помощью службы Western Union, то есть на деревню дедушке.
Танька все это описывает, будто листает страницы ада, но ведь на эту ситуацию можно было посмотреть и с юмором, а она описывает нашу жизнь так, будто вот-вот раздастся стук в дверь, нас арестуют чекисты или фашисты и потащат на цугундер или расстрел.
Танька не пишет, она воет, стонет, кричит, прощается с жизнью, удручена тем, что стареет, что выпадают волосы, непрерывно говорит, что не может больше это терпеть, и ее жизнь — это самое страшное, что можно себе представить.
И при этом я узнаю все подробности нашей жизни, она ничего не придумывает, она описывает какие-то вещи довольно точно, но с интонацией совершенного, абсолютного отчаяния, в цвете которого я превращаюсь в какого-то молчаливого, бездушного и безучастного монстра, цедящего сквозь зубы два-три слова, а на самом деле два-три упрека, чтобы опять вернуться в своей кокон, в свой панцирь безостановочных и выглядящих под пером моей Таньки совершенно бессмысленных занятий, шопинга и жратвы.
Описанная ею жизнь в каком-то смысле точна, она ничего не выдумывает, она просто дает всему, мне, Алеше, себе, нашим знакомым и родственникам оценку как непрестанному ужасу и беде, ужасной и непоправимой неправильности. И самое страшное в этом то, что она действительно так это видела и ощущала.
Конечно, она избегает говорить о том, из-за чего мы чаще всего с ней ссорились — о своей тяге к выпивке. Об этом она не упоминает, как если бы описывать людей во время урагана, но о самом урагане, ветре и прочем — не упоминать. Только о последствиях, разрушениях и потерях. О поле боя после битвы.
Но если бы меня спросили, как часто вы ссорились с женой по поводу ее тяги к алкоголю, я бы сказал — не знаю, раз в месяц, ну, пару раз в месяц. Но Танька пишет в дневник, начиная с осени 2007 года почти каждый день. И совершенно с одной интонацией полного и окончательного крушения и разочарования в жизни.
Я помню это время, но ничего похожего на тот беспросветный мрак, ею описываемый, никогда не было. Я воспринимал все совершенно иначе: я писал большую академическую работу о Пригове и Кривулине, вёл колонку в питерской газете «Дело», каждый день ходил на работу в Дэвис центр; да, трудности, оплошности, порой или часто беспомощность от незнания чужой жизни, но для меня все это было в пределах нормы, а для нее — кромешный ужас.
Но если бы меня спросили, почему ваша Танька находилась под сплошным колпаком ужасной депрессии, почему она описала вашу жизнь как непереносимое мучение, я бы ответил: потому что она была слишком хорошей женой. Более того, она была из породы таких женщин, которые не умеют и никогда не устраивают скандалов. Которые никогда не кричат, не повышают голос, не идут на конфликт, не ссорятся, которые умеют все на свете терпеть и все носить в себе.
И вот это, может быть, самая главная ее беда — она все носила в себе, не устраивала мне скандалов, сцен ревности, не кричала на нашего сына, не била посуду, не ссорилась с подругами, не делала другим замечаний. Она испытывала раздражение и обиды, но не высказывала их или высказывала в такой форме, что это и обидой не назовешь. Но она была настолько требовательна к себе, настолько неуверенна в себе, настолько стеснительна, что не выработала язык коммуникаций с окружающим ее миром. Этот мир не был к ней особенно жесток, он особо ее не выделял, он наградил ее тем мужем, который ей достался, тем сыном и теми родственниками, которые у неё были или появились. Но она не с кем не могла позволить себе откровенности, она общалась с людьми по какой-то усеченной, укороченной программе, больше состоящей из намеков, шуток, обозначений проблем, а не отражения их. И оказалась совершенно незащищенной перед этой, в общем и целом, обыкновенной жизнью.
Да, главной причиной, центральным, возможно, пороком стала ее тяга к алкоголю, но и это объяснимо ее невысказанностью, невозможностью никому открыться, допустить прямое откровенное высказывание, жалобу, крик. Снять напряжение. Она все носила в себе, а потом, дойдя до ручки: начала писать в дневник, описывая изнанку своей жизни. Изнанку, потому что вне дневника это вела обыкновенную жизнь с шутками, готовкой еды, умными разговорами мужа и сына, стандартным набором эмигрантских проблем, которые есть у всех или практически у всех, но оборачиваются таким сплошным мраком и отчаянием, только если чувствам и мыслям нет выхода, все заперто, закрыто, воздух спертый и отравленный и, кроме как жаловаться и умирать, ничего не остается. Или смотреть фильмы, которые мы действительно смотрели каждый вечер, но она придает этим фильмам какое-то эсхатологическое значение: хороший фильм — день удался, плохой — все коту под хвост.
Танька находилась в депрессии, ужасной и мучительной депрессии, но не могла ни с кем об этом поговорить, потому что по касательной обязательно бы всплыла ее тяга к выпивке, а эта тема была для неё — табу. У неё была тяга не к выпивке, а к свободе, и тот, кто лишал ее права выпить, лишал ее воздуха.
Я пытаюсь сказать о своих ощущениях при чтении ее дневника, и это очень непросто описать. Моя девочка, моя единственная жена была глубоко и искренне несчастна, но не могла ни с кем, в том числе со мной, об этом поговорить. Я, конечно, замечал, что с ней что-то не так, и она постоянно упоминает разговоры о психиатре, а потом и разговоры с психиатром; но она ото всех все скрывала, она не была и не могла позволить себе быть откровенной. Только в своем дневнике, да и то словами передавая вой ужаса и отчаяния от своего состояния и нашей жизни.
Я читаю эти ужасные и однообразные страницы и пытаюсь понять, чтобы я мог изменить, если бы вернулся по волшебному мосту обратно в нашу жизнь и знал бы об ужасе, который она будет переживать, а ей никто и ничем не помог? Одного я точно не мог бы исправить. Возвращай меня хоть сто раз в одно и тоже место в прошлом, я не смог бы смириться с ее тягой к алкоголю. А это и было (или стало?) оселком ее проблем, отравленной косточкой внутри плода, без которой и самого плода бы не было. Если бы она была откровенной со мной, я мог бы попытаться, но для этого она сама должна была это осознать и попытаться решить. Но она говорит об ужасе, в который превратилась ее жизнь, но защищает свою слабость с огромной, переполняющей ее силой. Она была несчастна, но мне было трудно помочь ей в ситуации, когда она соглашалась обнажиться только перед своим дневником. Да и там она говорит только о последствиях, но избегает говорить о причинах.
Меня никто так не ругал, как ругает и проклинает меня моя Танька на страницах своих блокнотов, и то, что она пишет — это фактическая правда, которую видела и чувствовала она, оставаясь при этом невидимой и не понимаемой другими.
Как она мучалась, моя бедная. Вот я сейчас остался один, оглушительно один, один как в космосе или потерявшийся ребенок в толпе, потому что я прожил жизнь с любящей, тихой и преданной женой. Упрямой немного, но лишенной темной энергии, вообще страдающей от недостатка сил, всегда как бы немного больной, но при этом бесконечно терпеливой.
И как бы ни было ужасно то, что рассказывает она о нашей жизни, у неё была и другая жизнь, жизнь самой преданной из всех встреченных мне на свете женщин, самой незаметной и незаменимой. А то, что она была так несчастна, когда писала в свой дневник, — это все равно моя вина, я взял ее в жены, я обещал сделать ее счастливой и допустил, чтобы она так страдала, даже не догадывался об этом. И если она стала пить, то опять же из-за меня, моего давления, присутствия, бешенного напора, моего эгоизма. Писатель — это не директор мебельного магазина, ибо мы так шутили по молодости, мол, лучше бы ты выбрала директора мебельного магазина — может быть, тихо говорила она и смотрела мне в глаза.
Она так мне верила. Слишком хорошая, слишком спокойная, слишком стеснительная и молчаливая, слишком слабая и слишком терпеливая. Бедная моя, бедная. И что мне теперь делать с этим дневником — я не знаю. Прости меня, дорогая.
Но нет никого, некому прощать, не у кого просить прощения. Поздно.
