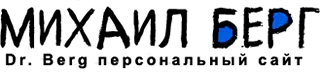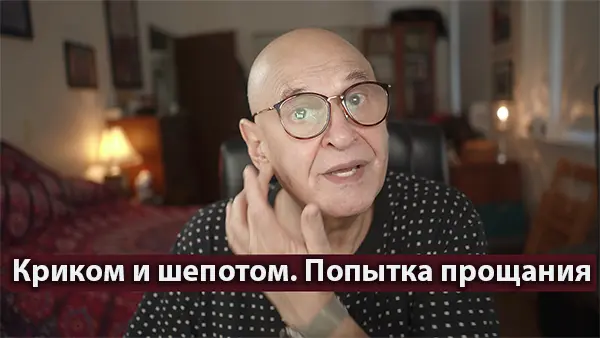
Криком и шепотом. Попытка прощания
С нашим психиатром у нас были приятельские отношения. Человек образованный и проницательный, он подчас совпадал, подчас не совпадал с моими взглядами, но за долгие годы мы, кажется, поняли друг друга и говорили обо всем на свете. Мой психотерапевт – милая-премилая дама, мы разговариваем раз в неделю, хочется думать, ко взаимному удовольствию. А возможно, и пользе.
После смерти моей Таньки мой психиатр положительно оценил мое решение написать о ней, и, если я не ошибаюсь, ему моя книжка понравилось. Даже очень. Но он рассчитывал, что, написав книгу, я как бы попрощаюсь со своей женой и попытаюсь жить дальше. И то, что я продолжал о ней писать, воспринял отрицательно, тем более, когда я нашел Танькин дневник и вошел, как сказала мне одна собеседница, в эмоциональный штопор. Про эмоциональность этого штопора я не уверен, ничто, даже горе, не может изменить способ функционирования моего мозга, а он настроен на аналитическое осмысление, и здесь происходит тоже самое, если не считать, что это осмысление становится все более и более болезным. Может быть, это и есть эмоциональность.
При нашем последнем разговоре, в котором я обратился за советом, мой психиатр привел такую метафору: вы жалуетесь на боль в голове, обращаетесь за помощью к врачу, а тем временем просто бьетесь головой о стену, разбивая ее в кровь, и надеетесь, что врач уменьшит боль. Перестаньте бить головой об стену. Перестаньте непрерывно думать и писать о Тане, вы загоняете себя в тупик, из которого выход будет все труднее и труднее.
Наверное, он прав. Ситуация с дневником меня совсем измучила, и я, возможно, попробую не писать или писать меньше о Таньке, и постараюсь не погружаться в ее дневник, но вот что я точно не могу не отметить. То, что Танька переживала сильнейшую депрессию, она говорит открыто на каждой странице своего дневника, но ведь она вместе со мной ходила раз в месяц к нашему психиатру и регулярно обманывала его, уверяя, что с ней все в порядке. Она жаловалась на ухудшающуюся память, получала совет больше записывать – не здесь ли исток ее решения писать дневник – но скрывала свое разочарование, я уже не говорю о том, что она ничего не говорила о своей тяге к алкоголю, пытаясь даже внутри себя вписать это в норму.
Почему? Почему я, которому все давалось намного легче, мог рассказывать и рассуждать о своих проблемах, не видя никаких оснований что-то скрывать, умалчивать, представлять и представать другим? Потому что открытость, полная открытость, были часть моего понимания силы, собственной силы, прежде всего, силы воли, хотя я уже писал, что моя физическая сила и пониженное чувство страха также выходило в этот комплекс качеств, который схематично можно обозначить силой, волей, силой воли. Еще в детстве мне пришлось выбрать, либо быть открытым и идти на любой вызов, ни от чего и никого не прячась, либо становится тем, кого я с того же детства презирал, как окружение моих родителей, прятавших за удобным конформизмом остроту своих убеждений. Когда я решил, что буду драться с компанией гопников из соседнего дома, сколько бы их ни было, я выбрал своей путь, и уж точно страшнее, чем мне, семикласснику, а потом восьмикласснику было драться со шпаной, мне не было ни при преследовании КГБ и их угрозах посадить меня, да и вообще больше никогда.
И я это специально преподношу вам в таком бравурном тоне, чтобы вы сами увидели уязвимость такой позиции, потому что быть сильным, это значит постоянно навязывать другим отношение к тебе как к сильному, а это отношение предполагает, что на сильного смотрят снизу вверх. И значит, даже не требуя признания (сильный ничего не требует, он получает все сам), он почти невидимым для себя образом навязывает окружающим комплекс слабого.
В данном случае я говорю о своей жене, которая, переживая сильнейшую депрессию, прятала, скрывала ее ото всех – меня, нашего сына, нашего психиатра, своих приятельниц, с которым все эти годы разговаривала, и они, не сомневаюсь, не представляли, что она после разговора с ними будет кричать страшным криком и воем в своем дневнике, как ей плохо, как ей больно, как она мучается от своей жизни. Но моя Танька все скрывала, она критически, остро критически относилась к моей открытости, сама предпочитая соблюдать некий политес, в меру хвастаться перед подружками нашими поездками или Америкой, а сама переживала муку мученическую, ни с кем ее не разделяя.
И причин здесь две: она понимала, что если станет откровенной, в том числе с нашим психиатром, то ей надо будет признать проблему с алкоголем, а она была готова умереть, но не сознаться в этом. И потом – эта самая слабость, которую она так, конечно, не называла, а придумывала синонимы – зачем мне грузить своими проблемами чужих (или других) людей, у них что – своих проблем мало. И она так десятилетиями жила в состоянии этой ловушки, не имея возможности и силы из нее вырваться, и только оставила красную сумку с 8 блокнотами своих дневников, чтобы рассказать о том, о чем не решилась говорить в открытую – о своей боли.
Я устроен так – и думаю, это как-то вписывается в моей комплекс, мое отстаиваемое, демонстрируемое впечатление о моей силе, что я не в состоянии никого винить больше себя. То есть моя Танька пила – потому что такую жизнь я ей предоставил, что без алкоголя она не могла ее вынести. Она все скрывала, обманывала, меня и многих других, изображая пристойную норму, которой не было или в которую она не верила. Но это в том числе потому, что я для себя аккумулировал комплекс силы, и как бы обирал окружающих, заставляя их признать мое преимущество и при этом самим потеряться, спрятаться в комплексе слабости и умолчания. То есть я и есть – главная причина слабости, которую я навязывал окружающим, в том числе моей девочке.
Я не могу на нее сердиться. Она меня обманывала каждый день, она играла роль замечательной жены, а ночью писала о том, какой я ужасный, бездушный, мрачный и больной тиран. И я ничего уже не могу изменить. Ее нет, она умерла, она не воспользовалась моей помощью, потому что лелеяла навязанную ей слабость, как избавление от фальши. И постепенно для нее фальшью стало все, — окружающее, ее собственное прошлое, ее какие-то чувства и убеждения, любовь ко мне, о которой она рассказала на танцах в девятом классе в физкультурном зале на четвертом этаже на углу Среднего и Шестой.
Я не знаю, как глубоко проникла ее ревизия себя и своей жизни, но ее сокрытие правды – было способом не только избавиться от упреков, но и открыть шлюз для облегчающей жалости к себе. И это был опасный путь.
Когда она заболела – я об этом уже говорил – я сказал ей, давай уйдем вместе, пока не поздно? Она посмотрела на меня с недоумением, она не верила в плохое, плохое оно считало моими очередными преувеличениям, считая, что у нее просто разыгралась подвздошная грыжа, найденная жизнь назад нашим врачом Юрием Израильевичем Фишзон-Рысом. Нет, возможно, она дотронулась до меня, возможно – нет: еще рано, не надо торопиться. На самом деле это была последняя возможность. Я ей говорил, что без нее мне будет невыносимо, но она не хотела видеть реальность, она пряталась от нее. А мою заботу о ней воспринимала именно так, как я ей предлагал относиться: он без меня не может, значит, помогая мне, он помогает себе.
В конце 80-х, готовя к выходу первый номер нашего «Вестника новой литературы», я общался с религиозным философом Костей Ивановым, который, среди прочего, развивал идею о даре, который нужно вышучивать. То есть дар – дар другому, подарок или какая-то помощь ему – настолько обоюдоострая вещь, что, дабы не поранить, не перегрузить им другого, которому мы и презентуем свой дар, мы обязаны его принизить, сделать менее значимым, обернуть снижающей ценность оболочкой. И тогда дар не будет столь болезненным и его не надо будем обдумывать на предмет платы за благотворительность. Выйти за пределы процедуры обмена.
И без Кости Иванова наша культура, христианская, конечно, культура, вне зависимости от наличия или отсутствия у нас веры, интуитивно заставляет нас действовать именно так. Культурно вменяемый человек не будет манифестировать свой дар, вручаемый другому, как огромное благодеяние, наша скромность – часть культурой экономики. И это в полной мере относится ко многому, в том числе к моим отношениям к моей заболевшей девочке. Я ухаживал за ней как мог, я точно не мог ничего сделать больше, и, хотя я не спас ее, и буду нести эту вину до конца, я делал так, чтобы она считала, что я забочусь о ней в рамках, не знаю, разумного эгоизма, что ли. Может быть, поэтому она меня не благодарила – да и за что благодарить такого эгоиста, как я. Разве что оставить ему в раздвижном платяном шкафу сумку с дневниками за 14 лет, с убийственным описанием меня, который спокойно и неуклонно гибнет от ее отсутствия и совершенно не знает, как жить дальше.
Мой психиатр, кстати уходящий на пенсию (и, значит, мне надо будет привыкать к другому), с нескрываемым недовольством почти требует от меня перестать мусолить Танькин образ, перестать о ней писать, думать, горевать. Не знаю, возможно, попробую, мне тут на днях стало так худо, что почти не было сил терпеть; почему нет — разве я мало сказал, я разве мало уличил себя в вине и за то, что не спас ее, и за то, что она – как выяснилось – так мучилась со мной при жизни. Сегодня я попытался оправдать ее слабость, которая была центром многих ее проблем, тем, что сам инициировал ее, занимая позу сильного. Я во всем виноват. Мне никуда не деться, я могу конечно, сломаться, но у меня нет другой жизненной позиции кроме как быть открытым, совершенно открытым и не отступать, никогда не отступать. Вот и донеотступался, не отступался бы еще, да болит влагалище, вместилище для души.
Пока. Пора попробовать замолчать.