
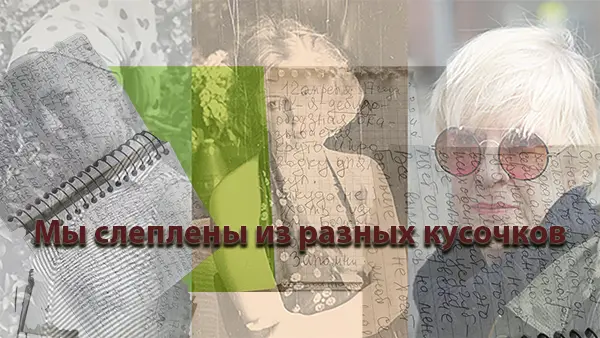
Мы слеплены из разных кусочков
Подростком я очень любил Хемингуэя и прочел, кажется, все, что было переведено. Потом эта любовь, как все романтическое, рассеялась, но последнее время я по разным поводам вспоминаю один его рассказ The sea change, на русский переведенный как Перемены. О том, как от молодого мужчины уходит его девушка и уходит к другой девушке. А перед этим говорит с ним, опасаясь его резкой реакции и испытывая к нему нежность. «Мы слеплены из разных кусочков», говорит она, объясняя ему, что в ней происходит. И добавляет: «Ты пользовался этим, сколько хотел». Она объясняет, что он пользовался одной ее частью, но эта часть в ней не единственная. Это о том, что я попытаюсь сформулировать.
Я так и не нашел свой российский заграничный паспорт, но нашел еще один Танькин дневник. Он лежал в ящике прикроватной тумбочки, буквально у нее под рукой. Он начинается 19 июля 2015 года, последняя запись датирована 3 октября 2021, через три дня после моей операции по удалению рака простаты; еще есть несколько разрозненных листков, вырванных из какого-то другого блокнота, но имеющих отношение к более ранним датам, они лежали под дневником.
Мое предположение, что после 2012 года (декабрем этого года кончался последний ее дневник, найденный в красной сумке) она перестала писать, так как успокоилась, привыкла к нашей эмигрантской жизни, — это предположение оказалось ошибочным.
Какое это отношение имеет к рассказу Хемингуэя, самое непосредственное. Мне было очень тяжело читать эту последнюю часть дневника, потому что там идет речь о об обиде и ненависти ко мне. Почти целиком. И если экстраполировать содержание этого дневника на всю нашу жизнь, то получается, что Танька ненавидела меня почти непрерывно, по крайней мере, пока писала, а писала она примерно об одном и том же. О том, что я невнимателен, не ценю ее, что погружен в свои дела, что не замечаю ее и постоянно третирую за то, что она пьет и курит в добавку. Понятно, что она так защищалась и защищала свое право делать то, что хочет, прежде всего, пить, не подвергаясь при этом осуждению.
Последние годы мы согласились на такой график: мы выпиваем только на выходных, а на буднях не пьем. И это почти до самого конца работало и стало ломаться, когда ломаться стала вся наша жизнь. Но я все равно боролся с ее пристрастием, как мог, и Танька не могла мне этого простить. Она интерпретировала борьбу с ее тягой к выпивке как борьбу за свою свободу, а меня как диктатора, упивающегося своей властью. Самое часто слово: «Ненавижу». Оно по большей части обращено ко мне, эпизодически к моей маме, с которой у нее были сложные отношения. Но если пользоваться этим дневником, как путеводителем по нашей жизни, то возникает совершенно ложное впечатление, что вместе жили два ненавидящих друг друга существа, не имеющих практически ни одной точки соприкосновения.
Но это не так. Да, она боролась за право легализации своей слабости, но одновременно была самым близким и дорогим мне существом. Ее раздражало, что я слишком много времени, по ее мнению, уделяю своим родителям, а когда ушла мама, то папе. Ей казалось, что я это делаю в ущерб ей. Но в ее дневниках практически нет упоминаний о наших путешествиях, так, отдельные безоценочные фразы. Так же отстраненно и как бы сквозь зубы она упоминает о моих публикациях, книгах и статьях, которые она редактировала, но в дневнике она это сообщает как не отрефлексированные факты. И понятно почему. Ни одно радостное событие или событие, не маркированное как образец моей бессердечности и равнодушия к ней, не помещалось в этот непрерывный поток упреков и ненависти ко мне. Потому что она писала об этом или преимущественно об этом. Это был ее протест, ее ответ, и здесь я делаю два вывода, имеющих отношение к рассказу Хемингуэя.
Танька, как я и все мы, была слеплена из разных кусочков. В ее дневнике говорит только один, обиженный и борющийся за легализацию ее потаенной страсти (хотя почему потаенной, вполне вроде как откровенной), а все остальное просто не попадает в ракурс ее взгляда и интереса. Но я-то, в основном или преимущественно, имел отношения с другой женщиной, доброй, заботливой, стеснительной, стесняющейся именно откровенной нежности, ласковости, но остающейся при этом мягкой, доброжелательной и невероятно дорогой мне. Этого нет в ее дневнике, но это было в жизни. Более того, именно из этой второй ее части, она и была соткана для меня, прожившего с ней полвека. Кто-то скажет о темной и светлой стороне любой жизни, но это не совсем так, хотя почти весь ее дневник соткан из раздражения и упреков мне, которые она, конечно, пыталась высказывать в наших реальных диалогах, и вот тут начинается еще один важный кусочек.
Сам дневник с его дискурсом ненависти был следствием того, что она не могла сформулировать и противостоять мне в наших многочисленных разговорах. Я был убедительнее именно для нее, и она, понимая это, лишь изредка и ненастойчиво намекала на это. Но не могла сформулировать и защищать свою позицию, но не могла согласиться и с моими доводами, что и побуждало ее к раздраю, к разделению на две части – условно говоря, дневную, вполне рациональную, не избегающую артикуляции, и ночную, дневниковую, где она царила, мстила и ненавидела меня за то, что я доминировал днем.
Мне, конечно, было очень тяжело и больно читать эти спичи ненависти ко мне, но я всю жизнь прожил с другой женщиной, которая заботилась обо мне, которая помогала мне, чем только могла, которая ценила меня, потому что никого ближе у нее не было.
Конечно, это, говоря обыденным языком, — трагедия. Но трагедия, присутствующая у всех и всегда, просто далеко не всегда две части одной жизни дистанцируются друг от друга, превращаясь в свою противоположность. Когда Танька была повернута ко мне лицом, она была милая, светло и стеснительно улыбающаяся, очень часто красивая и мягкая женщина, с которой мне было далеко не всегда легко, но я вынужден был мириться с ее недостатками (или тем, что так называется), отдавая должное ее самоотверженности и преданности.
Я теперь понимаю, почему перед отъездом из России она уничтожила свои девичьи дневники, они репрезентировали другую ее часть, которой она захотела противопоставить ее противоположность. Не любовь, а ненависть. Это если пользоваться такими трафаретными обозначениями того, что испытывают все, но по-разному, помещая сложный букет в прокрустово ложе упрощения. В ее дневнике нет места ничему из того и тех, кого она ценила, о ком заботилась, чему наслаждалась, лишь для проформы сообщения сквозь зубы про мои публикации или выставки, в которых она принимала участие. Она сообщала об этом для соблюдения иллюзорного баланса, но на самом деле писала только о том, что ненавидела, чему и против чего протестовала, и, кажется, даже упивалась этим.
Из ее дневника возникает образ угрюмого, самовлюбленного болвана, он просыпается недовольным, мрачным и молчаливым, и только поработав несколько часов, немного оттаивал и становился коммуникабельным. Но все равно общий тон повествования превращает ее партнера в какое-то изломанное чудовище, которое готово заниматься чем угодно, только не ей. Равнодушный, страшный, непримиримый, никогда не извиняющийся, и даже если это преувеличение, это был мой образ в глазах этой ночной Тани; потому что она по большей части писала в свой дневник по ночам, в постели, протягивая руку единственному в этот момент своему другу – дневнику, согласному слушать любые ее жалобы и упреки.
Мне очень жаль, что я дал повод интерпретировать даже не себя, а какую-то часто себя таким образом. Я, получается, загнал в ее подполье, я позволил такому взгляду на себя появиться, я стал его отцом, и она мстила мне за это.
Но как бы больно она ни делала мне своими признаниями в ненависти, это не заслоняет ту ее часть, которая оборачивалась ко мне и Алеше, к тем ее подружкам и друзьям, которых она ценила и любила, но о которых забывала, открывая свой дневник, потому что светлое не помещалось в эту атмосферу темной и жгучей ненависти, тем большей, чем меньше у нее оставалось возможности сформулировать, артикулировать себя ее в другой части жизни.
Какое-то время назад я заказал ее портрет на тканевой основе, тот самый, где немного лукаво и очень по-женски смотрит в объектив хорошенькая шестнадцатилетняя девушка, с которой я познакомился в девятом классе нашей 30-й физматшколы. Я решил повесить его справа от себя на стене, у которой стоит мой стол с компьютером, чтобы видеть ее постоянно. Эта девочка объяснилась мне в любви во время школьных танцев в физкультурном зале, эта девочка ездила почти каждое утро встречать меня к первой паре, чтобы просто побыть со мной лишние минуты. Это девочка не поняла бы ни слова из Танькиного дневника и не узнала бы ни меня, ни себя в том, кто это написал. У нее не было этой второй, темной стороны, она еще не родилась, не появилась на свет, и не было повода ненавидеть самого близкого ей человека, который не мог смириться с ее потаенной тягой, но и не мог отказаться от нее, эту тягу испытывающую.
Я поставил этот портрет на свой стол, но не повесил его, в том числе потому, что тогда бы он частично перекрывался, как бы перечеркивался прикрепленным к краю стола держателем для микрофона, тем что называется mic boom stand, и шестнадцатилетняя Танька смотрит с вечным потаенным лукавством на меня, а я смотрю на нее и нашу подходящую к концу жизнь.
Я очень рад, что нашел ее дневники только сейчас, и они никак не повлияли на то, как я писал свою книжку «Жена», о нашей жизни и ее болезни и смерти. В ней темное, конечно, присутствует, так как моя задача была написать и сохранить образ моей Таньки таким, какой воспринимал и воспринимаю его я. Но и те дополнения, которые я писал и пишу в виде аппендикса, аппендиксом и являются. Если у меня будет возможность решать, я бы хотел сначала издать как бы канонический текст моей о ней книге, и лишь потом этот текст с дополнениями, от которых я не могу отказываться, но статус дополнений они не меняют.
Я знаю, что еще хочу написать о Таньке, нашей юности, наших отношениях, и это будут дополнения, я не хочу инкорпорировать их в основной текст. Милая, ты мне сделала очень больно, оставив мне свои дневники с признанием в ненависти ко мне. И это влияет, но не меняет моего отношения к тебе, чуть усложняет, чуть затемняет образ, мною воссоздаваемый и сохраняемый. Потому что ты была не просто лучшая часть моей жизни, ты была условием ее существования, так сложилось, так это произошло, и я принимаю ту боль, которую ты захотела мне причинить, как попытку усложнить то, что я мог бы упростить, но никогда не упрощал. А начинать поздно.
