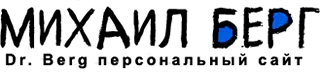Русский под другим соусом
Я хочу вернуться к одному впечатлению, которое посетило меня почти сразу по приезду в Усть-Нарву и сопровождало все те три недели, что я провел в ней, в Нарве, а последний день в Таллине, хотя в нем — меньше.
Я о совершенно непривычной для русского уха и глаза доброжелательности, причём не той, к которой я привык в Америке, основанной на правилах поведения, как бы обязательных, а вполне себе русской, на русском языке и, казалось, внутри русской культуры. Такое, безусловно, встречается и в России, и в Америке, и в других странах Европы или Латинской Америки, но тут вот какое уточнение. Русский язык — практически единственный в Усть-Нарве и Нарве, да, и в Таллине он есть, хоть не преобладает. А в русскоязычном анклаве, пограничном с Россией, он русский практически повсеместно, и это поначалу немного странно, а потом и вовсе непонятно.
Совершенно отсутствует привычная русская мрачность и неулыбчивость, как следствие ожидания любых подвохов от хитроумного мошенничества до колючего хамства. От пьяного напора до попыток государства все контролировать и наябывать при каждом удобном случае.
Я совершенно не знаю, каких политических убеждений придерживаются те русские в Нарве и Усть-Нарве, с которыми я разговаривал или был в контакте. Очень может быть, что их политические взгляды меня бы огорчили или неприятно удивили, но в рамках почти анонимного общения, естественного в незнакомом городе, радушие все равно удивляет. Я подчеркиваю, что в этих разговорах не было ничего серьезного, так, городская рекогносцировка, ориентирование на местности туриста при помощи прохожих на улице, продавцов в магазине, клерков в конторе. Для более глубокого общения не было возможности, да оно в этом случае и ненужно. Не нужно идти туда, где очень легко натолкнуться на другое и враждебное. Как говорил поэт по другому поводу: выше локтя не пойдешь или колена.
В некотором смысле поверхностное общение вполне можно сравнить с необязательным флиртом: ничего не значащее очарование, желание оставить хорошее впечатление. Но это часть культуры, которая у русских в России и в той же Америке — другая. А здесь неторопливая провинциальность, смягченная необязательной улыбкой и открытостью.
Вот мы останавливаемся на минутку возле дома на Койдула, 12, где 35 лет назад мы жили большой дружеской компанией. Я-таки нашёл этот дом, не сфотографировал его в первый раз, потому что он показался мне заброшенным и мрачным. Но вот я проезжаю мимо него в солнечный день и решаю все-таки запечатлеть его на айфон. Мы останавливаемся, я начинаю снимать, появляется улыбчивый жилец этих неказистых построек, я говорю ему, что жил здесь много десятилетий назад, он с радостью мне кивает, конечно, поснимайте, жалко нет моего отца, он бы вас встретил.
Моя подружка Олька зачем-то называет ему мое имя, и, как ни странно, он на него реагирует, нет, говорит, Михаила Берга я не помню, я был слишком мал, а вот Алешу Берга помню очень хорошо, мы с ним дружили и много проводили времени вместе. Узнав, что я — отец Алеши, засыпает меня вопросами, спрашивает, не собирается ли он в Усть-Нарву, и опять же жалеет, что его отец не сможет со мной перемолвиться парой слов. Дедушка, который и владел этим домом 35 лет назад, умер в 90-х, да, многое надо ремонтировать, кое-что сделали, но не все. Слова необязательные, но все под этим соусом совершенно другого вкуса, нежели русская речь в метрополии или у нас, в торопливой Америке.
Почему, что позволяет повернуться русской натуре к свету, не ожидать укола хамства или приема психологического самоутверждения? Да, русские в Нарве и Усть-Нарве преобладают, оставаясь самым крупным меньшинством в рамках всей страны. Может быть, это сложносоставная часть идентичности позволила в массовом порядке излечиться от фирменной хмурости и закрытости и транслировать ощущение того невнятного света, неточно именуемого свободой, которая либо есть, либо нет, либо обманет, либо станет привычкой.
Вообще-то то, что русская натура умеет приспосабливаться к любым внешним обстоятельствам, я это видел много раз, но дружелюбие и открытость дается ей с особым трудом. Самоутверждение, подчас настырное, как эстафета давления государства, все равно чаще всего никуда не девается, как и попытка избавиться от нее, передав насилие по эстафете. Именно поэтому отсутствие символического противоборства, отказ от него, как бы ошеломляет, заставляя опять думать о координатах русского, как типа. И, что скрывать, радует чрезвычайно, ибо как женственность, инстинктивно направлена на всех сразу и ни на кого избирательно и персонально. Потому что, персонифицируясь, она становится другим качеством — это-то присутствует у всех, потому что такая избирательность — эгоистична. А бескорыстие квадратно-гнездовым способом распространения говорит о новом и не вполне знакомом.
Я пытался вспомнить, как это все проявлялась тогда, во второй половине 80-х, когда я появился здесь впервые. Ощущение заграницы было, но оно транслировалось не столько людьми, сколько вещами и организацией пространства, и уж точно не обязательно русскими. Эстонский язык звучал повсеместно, и русская речь оставалась в тени эстонской. И можно было понять, что русское существует как способ приспособления к эстонскому. И никакого особенного радушия я не припоминаю. Сдержанность, немного чопорную, помню, дистанцию, которую не могли не обозначать люди с эстонской речью, ощущал. Как будто тебя отстраняли. То, что русские оккупировали Эстонию в имперской жадности до территорий, которые всегда не в коня корм, помнилось ежеминутно. И русские были в тени этой неизбывный вины, и никак не вычленялись, или вычленялись далеко не так отчетливо, как сейчас.
То есть процессы национальной независимости индукционным способом повлияли и на самоощущение русских. Они, как и все, перестали бояться. Или стали бояться совсем другого, не советской власти и КГБ, а эстонских властей и их стремления к национальной унификации, где русский равнялся чужому и возможно, имперскому.
Но куда важнее то, что и русские в Нарве ощутили это время как освобождение от комплекса причастности к империи и вине за неё. Легче дышать стало всем, и с вольным дыханием ушла мрачность, фирменная хмурость и боязнь оплеухи. И оказалось, что русский может быть любезным и неугодливо обходительным, не униженным, а добродушным. Нет, это не было выставляемая на показ радость, это было куда более естественное чувство радушия и доверия к незнакомцу, чего я не видел и не вижу у тех же русских в Америке. В том числе потому, что Америка большая, в доброжелательность русских в Нарве — камерная, небольшого размера, почти семейная, естественная.
В Таллине, куда я приехал на одну ночь перед возвращением и успел погулять по старому городу, пытаясь вспомнить, когда я был здесь первый и последний раз, все было иначе. Таллин — больше и торопливый, здесь все спешат, нет провинциальной размеренности. Нет и постоянной русской речи как в Нарве и Усть-Нарве. Я пытался вспомнить, когда я был здесь первый раз — но не вспомнил, возможно, студентом, на каникулах, приехал подышать прозападным воздухом в остатке. Почти наверняка с моей подружкой Танькой, возможно вместе с другом юности Юркой Ивановским. Да, мы приехали, кажется, втроем. Жили недалеко от центра и, конечно, гуляли по старому городу. Но в памяти почти ничего не осталось, кроме наиболее нагугленных (как сказали бы сегодня) достопримечательностей. И хрестоматийного впечатления от первого соприкосновения с Западом, более чем мифологизированным и загадочным. И мне, собственно, не было с чем сравнивать: архитектура за без малого полвека почти не изменилась.
За три недели в Нарве я лишь раз столкнулся с русским хамством, хотя почему обязательно хамством. Недопониманием и странностью. Со мной произошла довольно банальная история, я приехал в ботинках на очень толстой подошве, ботинках очень даже недешевых, и, казалось, очень прочных. Но выйдя раз из машины, взятой Олей и Кевином напрокат, я за два шага потерял обе подошвы. Это немного было похоже на цирковой номер, на первом шаге отлетела, вернее осталась на земле, как след ноги, подошва от левого ботинка, на следующем — от правого. Просто отклеились. Но чтобы настолько синхронно? Непонятная история.
Но у меня, кроме босоножек, другой обуви не было, и мы через пару дней поехали в обувную мастерскую, найденную в интернете. Приехали, нашли закрытую на замок дверь, мастерская закрыта, хотя, согласно расписанию, должна была работать до 2 дня. Но есть телефон, предлагают позвонить и договориться. И тут выясняется, что Олька оставила телефон с эстонской симкой в машине на парковке, довольно далеко отсюда.
Тут из соседнего помещения выходит какой-то мужик, Олька обращается к нему с просьбой, дополняемой улыбкой, не разрешит ли он позвонить на минутку хозяину обувной мастерской. Его соседу. Он смотрит на нас как бы сквозь, будто видит и не видит одновременно, затем, не издав ни звука, разворачивается и уходит. Еще через пару минут из того же соседнего помещения выходит другой мужик, и история повторяется как под копирку, на просьбу позвонить на минутку по телефону смотрит сквозь нас, молча поворачивается спиной и уходит. Может быть, сапожник увел у одного из них жену, у другого — сестру?
«Странная история, — изумляется Олька, —на Нарву совсем не похоже, здесь же все почти родственники, пусть и дальние. А ты видел, он даже не посмотрел на нас, как будто видел и не видел». Но в этом было что-то знакомое и незнакомое в одном пакете. Молчаливое русское хамство, ничем неспровоцированное и привычное. Такой аффектированный игнор.
Но этот инцидент запомнился именно потому, что был единственным за три недели, в течение которых мы сталкивались с также ничем не спровоцированным, спонтанным и оттого более ценным радушием к незнакомцу. А уважение к незнакомому, то есть априорное уважение, уважение в кредит — и есть настоящая вежливость. Потому что в уважении к знакомому есть откровенный обмен, а уважение к незнакомцу есть проявление универсальной вежливости, созданной жизнью в большом городе.
Мы же все помним, как в последние десятилетия советской власти, когда никакой перестройкой еще не пахло, у каждого второго телефона-автомата была оторвана трубка, а в каждой второй парадной на нижних этажах было нассано и душно пахло аммиаком. И это было демонстрацией отчуждения и неприятия города, отказ от коммуникации с незнакомыми людьми, где городская культура — это анонимное уважение, уважение в долг. У них, будущих путинистов, не было телефонов, им некуда было звонить и незачем. В отличие от сельской вежливости, которая распространялась на родственников и знакомых, незнакомым оставляя заросли настороженности и недоверия.
Так что нарвская и усть-наровская вежливость — это вежливость типично городская, сформированная жизнью в городе, когда ты зависишь не столь от знакомых, сколько от незнакомых людей. И именно поэтому она столь ценна. Возможно на земле есть еще места, где русские ведут себя одновременно достойно, радушно и вежливо, но я просто о них не знаю или не замечаю на фоне быстро меняющихся исторических декораций. Вежливость теперь совсем не в моде, ее сменили хвастовство и нагловатость. И это тем более странно, что она появилась там, где ее раньше совсем не было — в русскоязычном анклаве приграничного региона.
Русские все-таки не самые пропащие на земле, и ничто человеческое им опять не чуждо. А мрачность или нелюбезность — реакции на давление, и стоит только обстоятельствам измениться — но в том-то и дело, что они почти не меняются. Почти.