
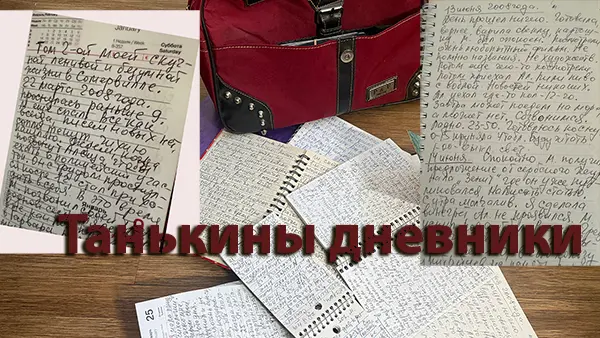
Танькины дневники
Вчера в поисках российских зарубежных паспортов, они должны быть вместе, мой и Танин, она хранила их у себя, нашел Танькины дневники. Они лежали в небольшой красной сумке, которую я много раз брал в руки, открывал, в боковом кармане видел наши старые американские паспорта, стянутые узкой резинкой (новые нашел уже давно); смотрел и внутри, открыл пару записных книжек, совершенно пустых, подумал, что Танька так хранила их на всякий случай, она не любила ничего выбрасывать. А тут, так как российские паспорта найти не могу, не то, чтобы собирался в Россию, нет, собираюсь в Усть-Нарву в Эстонии, но надо же найти документ: куда ты, родная, все это дела? Короче, еще раз открыл сумку, вынул очередной блокнот, полистал и мгновенно понял, что это ее дневник. Открыл еще, еще, все исписано ее почерком, 8 разнокалиберных блокнотов, блокнотиков и тетрадок, заполненных с первой по последнюю страницу. Кроме одного, возможно, последнего.
Читал всю ночь. Первая запись от 28 ноября 2007, последняя, если все правильно идентифицировал – 16 декабря 2012. Хотя есть блокноты без дат, только месяц и число. Летом 2007 мы первый раз поехали в Россию, вещи с нашей первой квартиры в Сомервилле (кроме нескольких сумок с необходимыми вещами) запихнули в специально арендованный storage. А когда вернулись, решили переехать поближе к моим родителям в Ньютоне и, с помощью Тани Янкелевич, с которой мы познакомились в Дэвис центре Гарварда, сняли квартиру в Брайтоне, на улице Strathmore Rd, примерно посередине пути от Сомервилля, где продолжал жить Алеша, все ещё учившийся в Гарвардской аспирантуре, и родителями. Дневник выполнял для Таньки функцию психологического успокоителя, она писала, когда была раздражена или обижена, не могла уснуть, плохо себя чувствовала или после наших ссор из-за алкоголя.
Не только, конечно, Танька подробно в нескольких записях рассказывает об одном моем позорном провале, буквально в первые месяцы жизни в Сомервилле и работы в Дэвис центре, я открыл такую вещь, как boston.craigslist.org, сайт объявлений о продаже вещей и разных услугах. И совершенно не понимая, как это все работает, купил у каких-то мошенников лэптоп Sony, что оказалось довольно тщательно проработанным мошенничеством с созданием поддельного сайта известной фирмы по доставке и поддельного же счета и адреса.
За опыт, который мне пригодился, я заплатил 500 долларов, научился по нескольким фразам распознавать объявления обманщиков, но эти 500 долларов не вернул. Танька описывает, как мы вместе с Алешей ходили в полицию, и там только развели руками, посоветовав позвонить в ФБР, для которых эта тема ближе. Никакого адреса или приемной ФБР нет, только полосовая почта, на которую можно наговорить слова, описывающие причину обращения, что я и сделал, но нам так никто не перезвонил. В Америке мошенников очень много.
При этом один из блокнотов Нюши начинается словами «Том 2-ой моей скучной, ленивой и безумной жизни в Сомервилле». И дата: 22 марта 2008 года. Но в это время мы уже жили на Strathmore Rd в Брайтоне. Хотя еще одна записная книжка датирована 8 марта 2100 года, скорее всего, она ошиблась, и год 2010. Речь идет о том, что мы с помощью какого-то Дениса (не помню совершенно) нашли квартиру-студию на втором этаже в Needham, очень маленькую, но относительно недорогую. Мы в этот момент снимали полдома в Абордейле и платили слишком дорого. Студия в Нидоме Таньке не понравилась совершенно, она с ужасом увидела, что нам придется жить буквально друг у друга на голове, она об этом не пишет, но я думаю, ее ужасала перспектива быть все время у меня на виду, а она хотела приватности, в том числе, чтобы выпить глоток-другой спиртного без меня и моего упрекающего взгляда.
Но чтобы оказаться в марте 2010 года нам предстояло еще три раза менять квартиры и пережить первый Танькин рак, операцию, сеансы химии, ее выпавшие волосы (волосам, их состоянию, она уделяет внимание не меньше, чем проблемам со сном, жалуется, что волосы становятся совсем тонкими, а сон все хуже). Пока не нашел описание ее ссоры с моей мамой, сразу после операции в марте 2009, когда мама, непонятно зачем и почему, сказала Таньке, что никогда ее не любила. И это привело к нашей ссоре с ней в течение нескольких месяцев.
Но общее и пока, конечно, поверхностное впечатление от Нюшиных дневников – очень депрессивное. Даже если принять во внимание, что она писала только, когда ей было совсем плохо, все равно записи разных лет похожи как близнецы. И самое главное, она писала, так как не могла выразить свое огорчение мне, я, как она повторяла неоднократно, упрекал ее в пессимизме, чего я не помню, но раз пишет, значит, так и было. Семейная жизнь далека от объективности, в ней сталкиваются две субъективности, и правоты здесь нет. Я могу сказать, что совершенно не узнаю себя в ее описаниях, но она видела или писала именно так, значит, таким это для нее и представало. Ей нужно было пожаловаться, но она не жаловалась ни в разговорах со своей мамой или сестрой в Петербурге, ни с общими знакомыми. Ей не давался тон, одновременно откровенный и позволяющий рассказать о том, что ее беспокоило. Она, к сожалению, как все мы, старалась перед другими держать марку, оценивать свою жизнь в сдержанных, но более оптимистичных красках, чем те, что она использовала в своем дневнике. Много жалоб на Алешу и беспокойства за него, но и у Алеши этот период был далеко не самый простой, но насколько она беспокоилась за него видно хотя бы из такой фразы:Алеша взял $400, слава богу.
Почему дневники кончаются декабрем 2012? Произошел какой-то перелом, ей стала легче даваться наша эмигрантская жизнь, привыкла или смирилась? Не знаю, может быть, найду еще одну порцию дневников. В ее комнате огромный – во всю стену — встроенный шкаф, а внизу, под вещами на вешалках, какие-то залежи пакетов, до которых мои руки еще не дошли.
Я еще буду разбираться с ее дневниками, но мне, конечно, больно, более всего, что я оказался для нее таким партнером, с которым легче вести диалог в дневнике, а не в живую. Конечно, мне самому наша эмигрантское бытие давалось непросто, но то, что Танька не могла выговориться со мной, что вынуждена была искать понимания у безликой бумаги, а не у близких, очень болезненный и, конечно, справедливый упрек. Ей вообще было не просто со мной, я слишком быстро думал и стремительно отвечал, она не поспевала за мной, и в результате невысказанное лежало грузом на ее душе, и мне от этого дополнительно больно. Эта была плата за разницу темпераментов, скорость словоговорения и формулирования, я знал, что ей бывало непросто со мной, но чтобы до такой степени, я не подозревал.
Я прекрасно помню тот ужас, который я испытал, когда обнаружился ее первый рак на женских органах. Как я переживал часы ожидания во время операции, но я читаю у нее и вижу упреки мне в холодности, и я сейчас хочу сказать, что это была не холодность, а холод ужаса. Но все равно я, вроде как владеющий словом, не смог ей выразить так свои чувства, чтобы ей стало легче.
И еще одна тема, касающаяся периода после первой операции в 2009 и ее реакции на нее. В дневнике она постоянно пишет о мучительных болях, но при мне она – само спокойствие, хладнокровие и почти полное отсутствие жалоб, как и потом, через 15 лет; но эти жалобы самой себе – постоянная тема ее дневника. Значит, она мне не доверяла, считала, что ей будет удобнее, если она будет отделываться общими фразами, а то вдруг я опять скажу: допилась до ручки? А она боялась этих упреков и готова была терпеть, что угодно, только бы не слышать их. Значит, я не нашел нужного тона, хотя можно ли его вообще найти? Не знаю, но мне больно и стыдно читать о ее очень часто одиночестве со мной, и я ничего не сделал, чтобы ей стало легче.
Да, есть редкие радостные записи, типа, не могла заснуть, увидела, что у меня горит свет, заглянула на огонек, в результате получилась любовь, не зря вставала среди ночи.
Что изменилось в 2012? Мы переехали на новую квартиру на River street, в Wellesley , и почему-то она перестала писать. В одном из ящиков ее письменного стола я нашел ряд записочек, которые она писала себе. Подчас это какие-то английские выражения или соображения об английском языке. Одна страница без даты очень похожа на ее дневниковую запись, но я пока не разобрался. Я мог бы себя успокаивать мыслью, что раз дневник был способом сбросить свое разочарование и огорчение, а после 2012 года записей нет, значит, возможно, ей стало лучше или легче. Но ведь я, ее партнер по жизни, не изменился, не стал более мягким или покладистым? Мне остается гадать.
То есть говоря прямо: этот дневник ужасен. Это ужасный, неопровержимый упрек мне, что я не мог избавить мою девочку от чувства одиночества, от тоски, на которую богата и щедра эмигрантская жизнь, но у меня всегда была работа, это как катер на воздушной подушке, какие бы волны не встречались, тебя что-то несет вперед, как мысль, еще не высказанная и даже не сформулированная. А у нее, моей Нюшки были только я и Алеша, и то, что она не просто помогала мне, а, как вижу я только сейчас, и была куда в большей степени этой несущей воздушной подушкой, она не знала, так я это не мог ей отчетливо сформулировать. Сказать то, что могу сказать только сейчас, что без нее я – никто. А пока она была рядом – либо молчал, либо говорил, но так, что это ее не успокаивало и не спасало. Говорил, но не убеждал. Вот и меня этот дневник не успокоил и не помог, вернее, помог увидеть себя ее глазами. И это очень тягостное зрелище.
