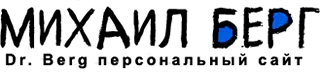Так как снижение актуальности литературного дискурса началось сразу после августовского путча 1991 года, то именно эту дату неоднократно обозначали как конец либерального периода русской литературы. Массовый читатель, отвернувшийся от литературы, продемонстрировал ценность для него того символического капитала, который присваивался литературой как способом самоутверждения в борьбе за власть общества с тоталитарным государством (период застоя), а перед этим — в борьбе государства с обществом, еще сохранявшим память о прерогативах дореволюционной гражданственности (сталинская эпоха). Победа либеральных идей сделала неактуальным чтение современной литературы, так как основная функция литературы состояла в создании (или, наоборот, противодействии функционированию) идеологических утопий, симулякров, аккумулирующих энергию власти; кроме того, литература представала в виде своеобразного перископа, посредством которого писатель-впередсмотрящий (а вслед за ним и читатель) получал возможность заглядывать в будущее, реализуя социально важные функции пророка. Одновременно писатель, как представитель господствующего класса, обладал властью, перераспределяемой в процессе чтения. Понижение статуса идеологического поля в социальном пространстве, потеря литературой власти, отказ от утопического признания будущего как времени более ценного, чем настоящее, вывели литературу из поп-сферы, придав ей статус старомодной изящной словесности; а отсутствие государственной поддержки и резко упавшие тиражи книг оказали сокрушительное воздействие на всю инфраструктуру книжного рынка, за исключением текстов, не скрывавших своей ориентации на развлечение, и сделали непрестижной саму профессию литератора.
Влияние социального аспекта — например, падение жизненного уровня среднего российского потребителя, который и являлся основным читателем профетической литературы, или появление широкого спектра других, новых и более привлекательных развлечений — вряд ли стоит переоценивать. Сужение «референтных групп» различных видов искусства действительно имело место, однако оно не разрушило инфраструктуру ни театрального процесса, ни художественного или тем более музыкального. В то время как литературный процесс перестал отвечать ожиданиям массового читателя.
Так как критерием актуальности стал рынок, то для литературы, дабы вписаться в рынок, оставался один путь — увеличения тиражей, что для профетического направления (как, впрочем, и наиболее радикальных проектов) было невозможно. Изобразительному искусству удалось это благодаря производству и продаже единичных объектов, на которые всегда находится покупатель, потому что «произведение изобразительного искусства — ценный товар, предмет для вкладывания денег. <…> Изобразительное искусство умудрилось ко всему этому продавать и единичные поведенческие проекты: хеппенинги, перформансы, концептуальные акции, предъявляя рынку, обществу и культуре новые и провоцирующие способы авторского поведения, в то время как литература застыла на уровне аутентичного текста»
[33].
Однако, если говорить о рейтинге популярности различных видов искусства на постперестроечной культурной сцене, то верхние ступени в табели о рангах стали принадлежать музыке во всех ее жанрах (за исключением разве что оперетты, которая, как и литература, стала интерпретироваться как «художественный промысел»)
[34]. Зато вырос символический капитал исполнительского искусства, классической музыки, оперы и балета, то есть тот вид легко конвертируемого «художественного промысла», который смог присвоить западные механизмы функционирования искусства и широкую аудиторию за пределами страны
[35]. Спрос на высокопрофессиональных исполнителей с международной репутацией характерен — таким образом, с одной стороны, подчеркивается вариативность современной культуры, с другой — такое ее качество, как интерпретационность, в противовес креативности и профетическому пафосу, так как комментарий, вариации на известные темы соответствуют задаче поиска потерянной идентичности.
Что касается кино, театра, изобразительного искусства, то и здесь сужение «референтных групп» внутри страны было компенсировано устойчивой и платежеспособной внешней аудиторией. В то время как большинство европейских культур (как, впрочем, и североамериканская), по крайней мере в послевоенный период, перестали быть литературоцентричными
[3]. Аудиовизуальное искусство, успешно конкурируя с письменной культурой, после французского «нового романа» не оставило ни одному европейскому явлению в литературе шансов претендовать на статус общеевропейского дискурса. Но так как после 1991 года влияние мирового контекста на поле русской культуры является не только существенным, но и подчас определяющим, имеет смысл подробнее рассмотреть, как складывались (а затем разрушались) тенденции литературоцентризма в Европе и Северной Америке.
Литературоцентризм в Европе
Литература как социальный институт складывалась в Европе совсем иными темпами, в принципиально иных социополитических, идеологических и институциональных условиях, нежели в России. До XIX века профессией литература не была, поскольку в XVII веке в России вообще не приходится говорить о профессиях как институциях, определяющих независимую от государства социальную организацию общества. Профессиональный статус появляется вместе с зарождением книжного рынка, когда литературный труд становится источником постоянного дохода. А в России, по свидетельству В. М. Живова, лишь в середине XIX века образуются корпоративные институты писателей и литературная деятельность становится профессией в полном объеме этого понятия. Однако и в Западной Европе литература далеко не сразу стала играть роль своеобразного «зеркала познания человека и общества». И для того чтобы поле литературы заняло то место в культуре, которое им было завоевано в конкурентной борьбе, «должны были возникнуть необходимые социальные и ментальные основания. Область литературы должна была выделиться внутри культурного поля, а культурное поле в своей целокупности должно было стать автономным»
[37]. Среди ментальных оснований следует выделить то специфическое влияние, которое оказала секуляризация общества, вызванная протестантским, реформаторским движением в ряде стран Европы; среди социальных — постепенную смену механизмов поддержки литературы в виде клиентализма и меценатства (когда место мецената и патрона в результате конкурентной борьбы постепенно занимает общество в рамках программы деаристократизации искусства) и столь же постепенный выход на общественную арену массового потребителя, названного Ортега-и-Гассетом «массовым человеком». То есть смена целей и ставок социальной борьбы, постепенное смещение зон власти от аристократии к буржуазии и рынку, смена властвующих элит, иными словами, смена феодальных порядков Просвещения буржуазными нравами и появление нового протагониста — буржуазного человека, для которого литература выполняла функции легитимации его нового статуса, а также ускоренного образования и воспитания. Литература ответила на социальный заказ, сформированный обществом, что, в свою очередь, позволило ей претендовать на более высокий социальный статус как синонима культуры как таковой.
Литература в новом социальном качестве появляется накануне буржуазных революций в Европе и одновременно выполняет несколько важных функций — способствует пониманию исторических и социальных процессов; помогает поиску пересечения вечных и исторических ценностей (или легитимирует новые социальные позиции как исторические), а также аккумулирует прогностические функции, возрастающие по мере приближения к эпохе общественных потрясений и падающие в цене в период стабилизации.
До формализации принципов Великой французской революции XVIII века, впоследствии воплощенных в европейской общественной жизни, понятие «литература» вообще не содержало явного признака «художественного», «искусственного» или «эстетического»
[38]. Сам термин «эстетика» также возник в ХVIII столетии, когда появляются и другие ключевые понятия литературной практики: роман (в форме «романц» — 1720), поэзия (1724), критика (1726), драма (1738) и т. д. Именно в XVIII веке все большее значение приобретают новости и возникает пресса, участвующая в рынке и продающая новости умеющей читать и образованной публике в рамках создания современной буржуазной общественности. Одновременно возникает и такое понятие, как «мнение общественности», приобретающее все большую власть в процессе конкуренции разных социальных групп, а литературные новости становятся инструментом самоутверждения не только рынка прессы, но и рынка культурных и социальных ценностей.
Но для того чтобы завоевать массового читателя, стало необходимым привнесение в литературу нескольких противоречивых на первый взгляд структурных изменений. С одной стороны, литература должна была восприниматься читателями как игра, вымысел, фикция — не случайно первое структурное определение литературы, закрепившееся в европейских языках, это fiction — вымысел (works of fiction — романы, повести). С другой стороны, литература должна была восприниматься как иллюзия правдоподобия. Именно поэтому, считает Р. Барт, литература (и прежде всего роман) выполнила функцию утверждения буржуазного мифа об универсальности мира, а роман смог снабдить воображаемый миф формальным свидетельством его реальности, в то же самое время сохранив за ним двусмысленность двойственного объекта, — одновременно правдоподобного и ненастоящего. То есть как бы надеть маску, тут же указав на нее пальцем. «Именно за счет такого приема восторжествовавшая <…> буржуазия получила возможность считать созданные ею ценности как бы универсальными и переносить на совершенно разнородные слои общества все понятия собственной морали»
[39]. Механизм мифотворчества стал механизмом присвоения власти. Готовых играть по этим правилам становилось все больше по мере того, как литература, да и вообще культура, теряет элитарный, аристократический характер и приобретает статус конвенции между писателем и буржуазным обществом. То есть характер социальной игры, способствующей повышению социального и культурного статуса как писателя, так и читателя.
Если классицизм задает нормативную дихотомию «высокого искусства» и «неискусства» (то есть тривиальной, развлекательной литературы и разнообразных зрелищ для народа, чему служат ярмарки, бродячие театры, цирки и т. п.), то для романтиков, ориентированных на поиск новых, более актуальных и чисто культурных источников авторитетности, контр-культура (народная, низовая и т. п. дискриминированная словесность) становится объектом литературной стратегии. Именно романтики, сублимировавшие протест человека третьего сословия против аристократических установлений, отделили от элитарной культуры массовую и конституировали ее как литературу.
Однако литература в Западной Европе приобретает особый социальный статус раньше того, как она становится профессией, «оказываясь важным компонентом modus vivendi социальной элиты. Этот статус литературы закрепляется в институциональных формах — таких, как литературные академии, читательские общества, литературные салоны и т. д.»
[40]. Результатом стали социально-структурные изменения, когда вместо мецената и патрона появилась подписка (коллективное меценатство), а уже затем — и весьма постепенно — складывается книжный рынок, обеспечивающий автору финансовую независимость от мецената. Появление книжного (читательского) рынка приводит к появлению новых профессий — критика, литературоведа и принципиально новых институций.
Так как проблема социального самоутверждения (в том числе в рамках стратегии самообразования) встает перед представителем третьего сословия как никогда остро, именно литература в период до и после Французской революции начинает претендовать на статус культуры в целом. Проблема самообразования, то есть повышения своего образовательного капитала не посредством классического обучения (или, по словам Лиотара, «развитого знания»), а с помощью «рассказов» (или «компактного», нарративного знания), объяснялась потребностью ускоренного образования, необходимого для повышения социального статуса тем, кто был заинтересован в перераспределении социальных ценностей.
Одновременно трансформируется и авторская функция. Мишель Фуко показывает, как, соответственно типу текста, меняется требование атрибутации автора. До границы между XVII и XVIII веками тексты, которые мы сегодня называем «литературными» (повествования, предания, эпос, трагедии, комедии), принимались, запускались в оборот и оценивались без всякого вопроса об идентификации их автора; их анонимность не вызывала никаких затруднений, так как их древность, реальная и предполагаемая, рассматривалась как достаточная гарантия их статуса. А вот те тексты, которые теперь называются научными или паранаучными (астрономия и предсказания астрологов, медицина, естественные науки и география), — принимались в Средние века и рассматривались как «истинные» только тогда, когда были отмечены именем их автора
[41].
По мнению Фуко, именно в период, предшествующий Новому времени, происходит перераспределение функций авторства — ситуация, когда «научные» тексты авторизованы, а литературные существуют в качестве анонимных, меняется на прямо противоположную. Авторское имя обозначает появление единства в литературном дискурсе и указывает на статус этого дискурса внутри общества и культуры. Этот процесс параллелен процедуре возникновения системы собственности на тексты, он завершается в Новое время, «как только были выработаны строгие правила, регулирующие авторские права, отношения автора с издателем, права на переиздание и тому подобное — в конце XVIII и в начале XIX века»
[42]. Персонификация роли автора синхронна деперсонификации роли «героя» — если раньше анонимный автор описывал историческую жизнь героя, имевшего имя, то в Новое время автор, получивший право на имя, повествует о буднях «бесфамильного» лица. Автор присваивает имя героя, занимает его место — героем становится автор, одновременно апроприируя «функции исторического лица». Перераспределение собственности соответствует процессу присвоения власти и переориентации критериев морали.
Если декрет 1737 года во Франции запрещает, за редким исключением, публиковать романы «как чтение, развращающее общественную мораль», а в Германии среди «порядочных семейств» принято «не говорить о романах при слугах и детях», то после публикации английских романов Г. Филдинга и С. Ричардсона (что становится знаком чужого авторитета) во Франции появляется жанр микроромана (nouvelle), переосмысляемого опять же под влиянием английского nоvel — биографического повествования о буднях «бесфамильного» частного лица в современную эпоху. Влияние Англии, где буржуазная революция прошла на век раньше, очевидно для всей континентальной культуры. Если в Германии в 1740 году публикуется 10 романов, то к началу 1800-х годов — уже 300–330. Примерно такая же тенденция характерна для роста числа публикуемых романов и в других европейских странах
[43].
В России процесс становления социального института литературы происходит с опозданием почти на век. Борьба за статус и ценность позиции автора в социальном пространстве осложнялась традиционной анонимностью литературы Древней Руси. Первым, кто в России становится представителем элитарной европеизированной культуры, был Симеон Полоцкий, до него категория литературной личности определенно отсутствует. Среди наиболее распространенных жанров — панегирики, исторические хроники и т. п., легитимирующие позицию автора, помещающего свое имя среди исторических имен.
В то время как в западноевропейских романах, стремительно завоевывающих популярность в Европе, уже активно тематизировалась социальная проблематика, выдвигался новый тип героя — социального «медиатора», сниженного до «обычного человека», были найдены такие модусы литературности, как «психологичность», «чувствительность», происходит «легитимизация романного жанра по линии поиска исторических предшественников в восточной сказке, античной эпике, средневековом romans»
[44].
Два типа героев наиболее популярны — герой, самоутверждающийся протагонист эпохи, линия судьбы которого совпадает с контурами волны общественных перемен, и герой-аутсайдер, жертва этих перемен из разряда «униженных, отверженных и оскорбленных», символизирующий собой напоминание о той цене, которую платит общество, вдохновленное реформами. Оба типа героя
[45] помогают социальной адаптации, так как ввиду повышения уровня грамотности резко растет число новых читателей, ориентированных на поиск социальной и культурной идентичности и заинтересованных в том превращении культурного капитала в социальный, который предоставляет процесс чтения. Во всей Европе, по словам Мандельштама, происходит массовое самопознание современников, глядевшихся в зеркало романа, и массовое подражание, приспособление современников к типическим организмам романа. Повествовательная проза (нарративное знание) становится важным регулятором общественной жизни и инструментом утверждения и присвоения власти — социальной, религиозной, культурной. «Роман воспитывал целые поколения, он был эпидемией, общественной модой, школой и религией»
[46]. Мандельштам называет семь романов, которые были столько же художественными событиями, сколько и событиями в общественной жизни, но атмосферу достоверности и легитимности романного чтения создают даже не десятки и сотни, а тысячи романов. Именно социальные романы Бальзака, печатавшиеся с продолжением в газетах (как, впрочем, и романы Диккенса, Гюго др.), издаются массовыми тиражами и будоражат общество, а то, что в XX веке получило бы обозначение «массовая литература», то есть произведения, оцениваемые современниками как чисто развлекательные, не осваивающие новые социальные позиции (и новый художественный язык), по популярности и тиражам явно им уступают. Недаром Сент-Бёв называет «промышленной литературой» не так называемые «черные романы» и не авантюрные произведения Дюма, а социальные романы Бальзака.
Появление массовой читательской аудитории имело несколько взаимосвязанных причин. Во-первых, произошло резкое увеличение населения Европы. В «Восстании масс» Ортега-и-Гассет приводит данные
[47], опубликованные Вернером Зомбартом. За всю европейскую историю вплоть до 1800 года, то есть в течение двенадцати столетий, население Европы никогда не превышало 180 млн. Но с 1800-го по 1914-й, то есть за одно с небольшим столетие, население Европы возросло со 180 до 460 млн[
48]. Одновременно растет жизненный уровень среднего класса и изменяется пропорция между временем, затрачиваемым на поддержание жизненного статуса, и свободным временем, используемым для образования, развлечений и повышения своего социального рейтинга. «Триумф масс и последующий блистательный подъем жизненного уровня произошли в Европе в силу внутренних причин в результате двух столетий массового просвещения, прогресса и экономического подъема»
[49]. Ортега-и-Гассет, суммируя все факторы, приведшие к появлению массового человека, сводит их к двум — либеральной демократии и технике. Развитие техники и привлекательность идей либеральной демократии приводят к перемене заказчика в культуре, а новый заказчик выбирает литературу как наиболее репрезентативное проявление основных значений культуры; но эти же два фактора в XX веке вызывают изменения культурных приоритетов «массового человека» в Европе, который в промежутке между двумя мировыми войнами начинает отдавать предпочтение уже не литературе, а другим видам искусства — прежде всего появившимся именно благодаря развитию техники
[50] — сначала кинематографу, а затем и телевидению. Почему?
Не случайно статья Мандельштама, опубликованная в 1922 году, была названа им «Конец романа»: по мнению исследователя, влияние и сила романа в эпоху «массовых организованных действий» падают вместе с ролью личности в истории, формирование нового психотипа заканчивается, его доминирующее положение в культуре становится фактом, энергия перемен использована, и новый романист понимает, что отдельной судьбы как способа присвоения властного дискурса уже не существует. Массовые организованные действия, о которых говорит Мандельштам, — это не столько предчувствие будущих репрессий, показательных процессов и невозможности для индивидуума перераспределять власть тоталитарного государства, сколько понимание того, что законы либерально-буржуазного общества и соответствующие позиции в социальном пространстве настолько автоматизировались, что выход за их пределы почти невозможен как для протагонистов эпохи, так и для аутсайдеров. Переходный период, длившийся полтора века, закончился, законы либерально-демократического общества стали восприниматься как естественные, необходимость вглядываться в зеркало романа для самоосознания и корректировки своей жизненной стратегии отпала
[51].
Произошло «нечто парадоксальное, хотя, в сущности, вполне естественное: как только мир и жизнь широко открылись заурядному человеку, душа его для них закрылась». Период социального самоутверждения (и массового «духовного поиска»), функционального во все эпохи, закончился. Литература, не столько заменявшая собой для «массового человека» социологию, философию, религию и т. п., сколько являвшаяся инструментом перераспределения властных полномочий, социального и культурного капитала, постепенно возвращалась в узкие пределы «искусства для немногих», так как выполнила свои предназначения. «Когда эпоха удовлетворяет все свои желания, свои идеалы, это значит, что желаний больше нет, источник желаний иссяк. Значит, эпоха пресловутой удовлетворенности — это начало конца», — утверждал Ортега-и-Гассет, сравнивая современного романиста с дровосеком посреди Сахары и полагая, что жанр романа если не бесповоротно исчерпал себя, то, безусловно, переживает свою последнюю стадию
[52].
Переход от одной эпохи к другой, ощущаемый как конец, пережили в начале века многие. О. Шпенглер в «Закате Европы» пытается установить некоторую периодичность смены эпохи культуры эпохой цивилизации, но здесь важна не столько продуктивность выведенного им цикла культура — цивилизация, которая может быть поставлена под сомнение, сколько вполне объективное ощущение того, что старая, привычная Европа — как символ перемен — уходит в прошлое.
Дата «начала конца» неоднократно оспаривалась. Фрэнсис Фукуяма в своей работе «Конец истории?» ссылается на Гегеля, который еще в 1806 году провозгласил, что история подходит к концу: «Ибо уже тогда Гегель увидел в поражении, нанесенном Наполеоном прусской монархии, победу идеалов Французской революции и надвигающуюся универсализацию государства, воплотившего принципы свободы и равенства»
[53]. С тех пор сами принципы либерально-демократического государства лишь редактировались, но не улучшались. Это «начало конца» естественным образом совпадает с «началом начала» либерально-демократической эпохи, как рождение одновременно являет собой начало смерти. И хотя отдельные режимы в реальном мире были еще далеки от осуществления принципов массового демократического государства, но «теоретическая истинность самих идеалов» либерализма уже не могла быть улучшена.
Альтернативой либерально-демократическому способу присвоения власти посредством делегирования полномочий и утверждения механизма народного представительства явились два отнюдь не метафорических восстания масс, безуспешно попытавшихся противопоставить либерализму национальную утопию (фашизм) и социальную (коммунизм); других альтернатив либерализму не было. Власть впервые оказывается в руках среднего класса (то есть большинства; в соответствии с терминологией Ортега-и-Гассета — заурядного человека), что позволяет перестраивать социальное пространство, поле культуры, политики, экономики, в соответствии с его запросами. Эти запросы сначала символизируют отказ от утопий предыдущей эпохи в пользу единственного регулятора социальных целей и критерия легитимности — рынка, но одновременно синхронны потери исторического времени, что, в свою очередь, побуждает представителя среднего класса «к самоутверждению, к полной удовлетворенности своим моральным и интеллектуальным багажом»
[54].
Таким образом, исчезает потребность в искусстве-собеседнике, в зеркале, отражающем интегральные, символические значения культуры, потому что, по словам Лиотара: «Великий рассказ утратил свое правдоподобие»[55]. Отпала именно массовая потребность в метанарративах, искусство стало выполнять принципиально другие функции, соответствующие новым целям и ставкам конкурентной борьбы в социальном пространстве, разделенном на референтные группы со своими институциональными системами. Актуальное искусство пошло по пути расширения понятия искусства за счет того, что искусством не считалось, но зато позволяло присваивать культурный и символический капитал поля политики, идеологии и т. д. Массовое искусство, необходимое для демпфирования сомнений и утверждения легитимности целей, ставок и деления социального пространства, пошло по пути удвоения действительности, воплощая, по сути дела, рекламный принцип: удовольствие, получаемое героем, предполагает возможность повторения действия в реальности, а псевдотрагическое (синонимичное отказу, выходу за пределы нормы) только подчеркивает легитимность нормы, стремление к которой тождественно приобретению чувства безопасности и социальной вменяемости. Удвоение действительности соответствовало также поискам идентичности и самоутверждению в ситуации, когда сама реальность иллюзорна и симулятивна; однако возможности литературы как в плане создания симулякров, так и в процессе их расщепления, для высвобождения энергии заблуждения, оказались недостаточными.
Два локальных всплеска литературоцентристских тенденций в XX веке — советский роман и латиноамериканский, — которые могут быть интерпретированы как отложенная реакция и следствие задержанного развития, являются теми исключениями, что только подтверждают правило. По замечанию В. Подороги, естественный процесс потери литературоцентризмом доминирующего положения в России был насильственно прерван в сталинское время, когда началось восстановление литературоцентристской модели мира на тоталитарных основаниях. Те социальные позиции, которые «массовый человек» в Западной Европе обрел в результате конкурентной борьбы, в советских условиях находились в нелегитимном состоянии. Выход «массового человека» на авансцену общественной жизни откладывался, повествовательные жанры, благодаря своей эвфемистической природе, позволяли вести в разной степени продуктивный диалог с границами поля культуры, олицетворявшими границы символической власти, пока стремительная эмансипация «массового человека» в результате перестройки не положила конец литературоцентризму, выполнившему свое предназначение. В результате письменное слово потеряло свою власть подтверждать статус реальности, как культурной, так и социальной. «Слово сегодня уже не играет в нашей кризисной культуре роль высшей достоверности. Потенциал убеждающего слова исчерпан, так как оно лишилось своего перформативного качества, оно больше не в силах изменять порядок вещей. Конечно, массовое беллетристическое сознание все время находится в ожидании нового слова, и это ожидание не в силах превозмочь даже телевидение, казалось бы самим провидением созданное для того, чтобы разрушать словесную магию. В целом весь краткий период перестройки представляет собой часть литературного процесса: постсталинская литература с великолепной настойчивостью и злостью уничтожает сталинскую литературу. Процесс завершен»
[56].
Отложенный характер явления латиноамериканского романа также является следствием задержанного развития в результате «колонизации». Процессу становления национального массового сознания в латиноамериканских колониях европейских государств мешали сначала метрополии, а затем заменивший их институт местных диктатур. Процедура деколонизации синонимична процедуре освобождения от феодальных порядков в Европе — выход на общественную сцену «массового человека» в латиноамериканских странах создал необходимые условия для всплеска интереса к роману, интенции которого (в том числе приближение будущего вплоть до растворения его в настоящем и укоренение в обществе новых социальных позиций) вполне вписываются в рамки уже исследованного механизма эмансипации «массового человека».
Примечания
[33] Пригов Д. А. Счет в гамбургском банке // НЛО. 1998. № 34.
[34] Характерно, что Пригов, определяя, чем актуальное искусство, в котором присутствует единственно важный сегодня стратегический риск, отличается от традиционного, к последнему относит, по сути дела, весь реальный литературный процесс, находя место всей литературной продукции в спектре «художественного промысла» или фольклора, между народным пением и росписью матрешек: «Заметим, что в свете нынешнего состояния искусства, к традиционным <…> мы относим все роды занятий от росписи матрешек и народного пения до рисования под Репина ли, импрессионистов ли, или классического романа — т. е. все роды деятельности, откуда вынуты стратегический поиск или риск, где заранее известно, что есть художник-писатель, как кому себя следует вести на четко обозначенном и маркированном именно как сцена культурно высвеченном пространстве, где единственно и может что-то происходить, где является обществу драматургия объявления и обнаружения искусства» (Пригов Д. А. Счет в гамбургском банке // НЛО. 1998. № 34. С. 116). Иначе говоря, актуальное искусство представляет модели игры, в которой инвестиции риска (как со стороны автора, так и потребителя искусства) способны обеспечить значительный выигрыш, а традиционное искусство соответствует моделям игры, где и риск, и выигрыш минимальны.
[35] Однако в российской истории несколько раз, обычно вследствие глубоких общественных разочарований, развлекательная, редуцированная культура начинаа теснить то, что современниками оценивалось как «высокое искусство». Этот успех «Библиотеки для чтения» и «Северной пчелы» (по сравнению с пушкинским «Современником») в последекабристский период, резко возросшие тиражи газет и иллюстрированных еженедельников после реформы 1861 года. Подобную ситуацию в начале 1920-х годов зафиксировал и Тынянов: «Нерадостно пишут писатели, как будто ворочают глыбы. Еще нерадостнее катит эти глыбы издатель в типографию, и совершенно равнодушно смотрит на них читатель. <…> Читатель сейчас отличается именно тем, что он не читает. Он злорадно подходит к каждой новой книге и спрашивает: а что же дальше? А когда ему дают это “дальше”, он утверждает, что это уже было. В результате этой читательской чехарды из игры выбыл издатель. Он издает Тарзана, сына Тарзана, жену Тарзана, вола его и осла его — и с помощью Эренбурга уже наполовину уверил читателя, что Тарзан это и есть, собственно, русская литература» (Тынянов Ю. Н. Литературное сегодня // Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 150).
[36] Ср. утверждение Р. Барта, что «миф о великом французском писателе» как «священном носителе высших ценностей» перестал работать вместе со смертью «последних могикан межвоенной поры» (Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 565). По поводу того, что и почему пришло на смену тенденциям литературоцентризма, характерно замечание позднего Лотмана, что в конце XX века мы делаемся свидетелями отступления языков искусства (особенно поэзии и кино) перед натиском языков, обслуживающих технический прогресс. В то время как в Европе в первой половине ХХ века расстановка сил была прямо противоположной (Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992. С. 223).
[37] Виала А. Рождение писателя: социология литературы классического века // Новое литературное обозрение. 1997. № 25.
[38] См. подробнее: Гудков Л., Дубин Б. Литература как социальный институт. М., 1994.
[39] Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика. М. 1983. С. 322.
[40] Живов В. Первые русские литературные биографии как социальное явление — Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков // НЛО. 1997. № 25. С. 25.
[41] Фуко М. Что такое автор? // Лабиринт-эксцентр. № 3. 1991. С. 34.
[43] О популярности романа в России, проникшего сюда с некоторым опозданием, можно судить по фрагменту статьи Н. М. Карамзина «О книжной торговле и любви к чтению в России», вышедшей в 10-м номере «Вестника Европы» за 1802 год. «Какого роду книги у нас более всего расходятся? Я спрашивал о том у многих книгопродавцев, и все не задумавшись отвечали: “романы!”». В своей статье Карамзин затрагивает и вопрос энергично складывавшегося в России книжного рынка. «За 25 лет перед сим были в Москве две книжные лавки, которые не продавали в год ни на 10 тысяч рублей. Теперь их 20, и все вместе выручают они ежегодно около 200 000 рублей» (Сочинения Карамзина. СПб., 1848. С. 545–550).
[44] См.: Гудков Л., Дубин Б. Литература как социальный институт.
[45] Ср. с двумя типами героев, о которых говорит Лиотар: герой свободы и герой познания, которые, в свою очередь, соответствуют двум субъектам рассказа — практического или когнитивного (Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М., 1998).
[46] Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987. С. 73.
[47] Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 3.
[48] Примерно такая же динамика роста населения характерна и для России. Согласно ревизии 1722 года, в России проживало 14 млн жителей, в 1796 году — 36 млн, в 1851 — 69 млн, в 1897 году — 129 млн. См.: Россия. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1898. С. 75.
[49] Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 3. С. 125–126.
[50] О социальных основаниях литературоцентризма говорит Антонио Прието, соединяя само существование жанра романа с целями буржуазного дискурса власти: «Возможно, час романа пробьет, когда прекратит свое существование буржуазия, вместе с которой родился этот жанр в своих социальных связях» (Прието А. Нарративное произведение // Семиотика. М., 1983. С. 376).
[51] Среди русских писателей, практика которых ознаменовала «конец литературы», первым чаще всего называют Варлама Шаламова. Его «Колымские рассказы» вполне соответствуют фразе Адорно: «После Освенцима не может быть литературы», благодаря советскому опыту расширенной до формулы «После Освенцима и ГУЛАГа не может быть литературы». Так, по замечанию Игоря Яркевича, Шаламов и не писал «литературу», Шаламов писал «руманы» с ударением на первом слоге (на блатном жаргоне «руман» — устный ночной рассказ, которым в лагерном бараке образованный интеллигент занимает уголовников за определенную мзду). «Ситуация “конца литературы”, обозначенная в европейской культуре в начале двадцатого века, стала близкой и понятной для русской культуры значительно позже, когда “роман” окончательно превратился в “роман”. Собственно говоря, сейчас протекает новый конец, но к таким концам уже начинаешь привыкать. Сам по себе очередной “конец” предполагает не исчезновение и не печальный итог, а новый виток или поворот культуры. Но многие незыблемые основания культуры лишаются на таком повороте своей уникальности» (Яркевич И. Литература, эстетика и другие интересные вещи // Вестник новой литературы. 1993. № 5. С. 245).
[52] Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 3. С. 143, 145.
[53] Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. № 3. С. 135.
[54] Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 3.
[55] Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М., 1998. С. 92.
[56] Интервью А. Иванова с В. Подорогой М. Ямпольским // Ad Marginem’93. M., 1994.