
I. Столичные патриархи
Как неопровержимо доказывает профессор Стефанини, приведенный выше отрывок статьи неизвестного автора мог быть написан только после известной экспедиции Ральфа Олсборна для знакомства со столичным литературным миром (описанию этой экспедиции и будет посвящена данная глава). Мы начали с конца, вспомнив совет Сэма Брюэля, который начинал каждую главку в своих знаменитых «Прогулках по Форуму» с краткой аннотации и пересказа не предыдущих, а последующих глав, чтобы, во-первых, добродетельный читатель мог не отвлекаться на поворотах сюжета от течения мысли, и, во-вторых, чтобы дать заскучавшему читателю возможность сойти на любой остановке, если он устал.
Мексиканский критик и литературовед Сандро Цопани, первым переведший на диалекты маэ прозу сэра Ральфа, утверждал, что из находящихся в сложном (если сбить с этого желудя шляпку, то получится — ложном) положении колониальных писателей ему, сэру Ральфу, в указанный период более импонировал культурный и начитанный Билл Бартон, чей «Дом посреди дома» еще не вышел и только готовился к публикации в «Кук и сыновья» (в чем до конца не был уверен ни он сам, ни официальная печать, решившаяся на публикацию отдельных глав романа); красочный и экзотический Фаз Кадер, на слове которого благотворно сказалось знакомство с блаженным косноязычием г-на Сократова и по-родственному прочитанный Маркес; с любопытством будущий лауреат наблюдал за эволюцией мистического метода Бьюла Тиффони, очевидно, уже достигшего своего предела в ватерпольной войне ногами и не знающего, что доживает последние годы, если не месяцы. Были и другие.
Мексиканский критик-эмигрант подробно описывает отношения Ральфа Олсборна с современными ему колониальными писателями в послесловии к первому изданию прозы сэра Ральфа на маэ, послесловии, по сути дела превратившемся в серьезную монографию, где автор анализирует отдельные высказывания будущего лауреата о том или другом колониальном писателе, характеризует тех, кто привлек его внимание, дает развернутый анализ их социального положения. И в конце концов приходит к выводу, что «этим писателям приходилось несладко».
С одной стороны, их общепризнанный авторитет и известность делали затруднительным для издательских церберов отказ от чего бы то ни было, вышедшего из-под пера этих мэтров (так как этот отказ неизбежно приводил к публикации той или иной работы в Европе). С другой, сами писатели привыкали к чреватой неприятными последствиями инерции печатания, инерции приглушенной речи с обязательной оглядкой на неминуемую цензуру.
Правда, узкие рамки, отведенные им хунтой, теснота коридора и низкие потолки приводили подчас к появлению интонации столь задушевной, что возникала достаточно трепетная и проникновенная ткань повествования, вполне понятного читателю, который чувствовал все намеки шестым или каким-то иным, особо развитым у него чувством.
Но когда тот или иной хороший колониальный писатель уставал, осатаневал от собственного шепота и пробовал говорить в полный голос, оказывалось, что этого громкого голоса у него нет; доверительная интонация исчезала и появлялась совершенно неинтересная, хотя граждански и более честная, но издающая мучительный скрежет натужная книга. Как человек, проведший долгое время в полутемном помещении, чуть ли не слепнет на ярком свету, так и голос, вырвавшись из затхлого, но привычного помещения на свежий воздух, теряет интимную шероховатость и, фальшивя, режет слух.
Статья молодого мексиканского критика вполне, на наш взгляд, заслуживает того, чтобы быть прочитанной полностью, и мы отсылаем читателя к соответствующему изданию («Десять лет среди теней», YMKA-PRESS, PARIS, 1977).
Пусть читатель представит себе сэра Ральфа, который в погожий мартовский денек мчится в загородной конке по направлению к столичному предместью Рамос-Мехиа, знаменитому прежде всего тем, что именно здесь долгое время жил и работал великий Боб Пастер, потрясший весь мир и особенно сердца неравнодушных к природе читателей (тех, кому дорого все живое) пронзительной историей доктора и его верного друга, пса по кличке Жевака (его имя происходит от милой привычки этой верной собаки как бы прикусывать нижнюю губу, в результате чего создавалось впечатление, что она жует)[1]. Этот роман, как, впрочем, и цикл натурфилософских стихотворений, теперь всемирно известных, был написан именно на этой вилле, где хозяин, перемежая свои литературные труды не менее вдохновенным огородничеством, написал обличительно смелый и дорого обошедшийся ему роман о докторе-ветеринаре и его верном друге. Роман, несмотря на Пулитцеровскую премию, был весьма колюче встречен либеральной критикой, ибо, как оказалось, добродушный Жевака некогда служил сторожевой овчаркой в концентрационном лагере на острове Дасос. Избиваемый охранниками, особо натренированный, он люто ненавидел несчастных жертв хунты, и только впоследствии, встретившись в том же лагере с добрейшим доктором, окунулся в не имеющую дна доброту его сердца и постепенно стал тем известным теперь каждому натуралисту псом Жевакой, что впервые явился писателю во сне именно на вилле Рамос-Мехиа.
Мы, однако, отвлеклись как раз в тот момент, когда сэр Ральф, сидя у окна мчащегося электропоезда, листал захваченное с собой в дорогу американское издание одного колониального поэта. Заинтригованный прежде всего комментариями, ранее ему неизвестными, куда частично вошли мемуары жены поэта, пережившей его более, чем на сорок лет. Здесь, к счастью, мы имеем возможность процитировать чуть ли не подряд несколько страниц из его записных книжек, имеющих непосредственное отношение к упомянутому дню. Вот эти строки: «Сам не знаю почему, но я был уверен, что еду за своеобразным благословением. Я собирался увидеться с г-ном Тэстом, которого тогда читал запоем, открыв его позднее других, да и то случайно: услышал, как он читает свои стихи в фильме, посвященном открытию Сенсуанской плотины, достал его тексты, перечитал несколько раз и уверился в том, что Тэст лучший из пишущих сейчас на русском языке в колонии, хотя теперь, спустя годы, вряд ли открою когда его книжку, а если и открою, то увязну через две-три страницы.
Тогда же, со всем молодым, хотя и не вполне мне свойственным пылом, я считал Тэста чуть ли не пророком в поэзии, и вбил себе в голову, что должен получить у него своеобразное благословение, посвящение в ранг писателя. Мне мерещилась символическая передача лиры, в голове витали странные образы, вспоминались имена великого Стейтсмена и молодого Гана. В прозрачной полиэтиленовой папочке лежали тщательно отобранные и перепечатанные на машинке эссе, в очередной раз я просматривал их у пепельно-пыльного окна электроконки, пытаясь прочесть их глазами Тэста.
Теперь ни одного из этих эссе не осталось, они куда-то затерялись после того, как я потерял к ним интерес, разочаровавшись полностью. Я давно научился не хранить эти бесконечные варианты и черновики романов в тщеславной надежде, что какой-нибудь благодарный критик или издатель после твоей смерти будет копаться в этом архиве, выуживая из него лакомые сведения для примечаний. Или же что я сам на старости лет буду ублажать себя перебиранием раритетов прошлого и пускать слюни, смакуя свои орфографические ошибки.
Но в тот день, едучи в электропоезде в Рамос-Мехиа, я подогревал себя мыслями о скором знакомстве с престарелым Тэстом и представлял себе различные варианты нашей литературной беседы, готовил быстрые и остроумные реплики, короче, был настроен мечтательно. Душа была распарена этими мыслями, как тело после русской баньки, к тому же было душновато: март, за серыми подтеками стекла с географией пятен и материков — снег и солнце; выйдя на платформу, я снял с головы белую велюровую шляпу, потому что припекало. Не помню, как шел, как корректировал дорогу к артистическому предместью Рамос-Мехиа, где, кстати, несколько сезонов подряд, но летом, жила моя бабушка, мать отца, никакого отношения к литературе не имеющая, но дружившая с одной провинциальной писательницей, после войны, кажется, не написавшей ни слова, — она брала мою бабушку себе в компаньонки, чтобы жить в одной комнате. Предместье славилось приличной кухней и недорогой платой; постояльцы были люди интеллигентные и не очень шумели, а жить разрешалось хоть круглый год, только вноси плату за месяц вперед. Кажется, вдоль дороги тянулась бесконечная чугунная ограда. Глубокая, протоптанная в снегу тропинка; по ней я добрался до административного корпуса, где и узнал, как найти Тэста.
Когда я постучал и, услышав невнятный вялый возглас, вошел в дверь, Тэст лежал, укрытый одеялом до серебристого подбородка, и тихо постанывал. Голова на подушке мало походила на портреты Тэста в его книжках, но была интуитивно узнаваема. Тэст был стар, сед, болезненно бледен и, очевидно, серьезно хворал, так как стонал сквозь зубы, пока я стоял у него над головой. Конечно, я не ожидал, что Тэст встретит меня в постели, комната напоминала не келью поэта, а скорее госпитальную палату, но вместе с естественным приступом жалости к старому больному человеку во мне опять вспух пузырь нелепого желания услышать формулу благословения, заполнив ее зудящую выемку. Тем более, что антураж не так-то этому и противоречил. Умирающий Тэст — великий Стейтсмен, я примеривал к себе образ Гана. Что-то настораживало. Что? У меня хватило ума ретироваться почти немедленно. Я пробормотал какие-то заранее приготовленные слова, уже ощущая их неуместность, и только по инерции опустил свои нелепые эссе на заставленный лекарствами стул, лишь на мгновение вынырнувший из воронки закручивающегося вокруг него беспорядка, и тут же вышел, провожаемый слабыми стонами.
Через минуту я уже стоял на дощатых ступенях крыльца административного корпуса — снег на ступенях был в полукруглых следах от каблуков и рифленых подошв — и с удовольствием после лазаретной атмосферы дышал свежим воздухом и раздумывал. Кажется, я попал впросак. Раздражение на себя и свою неловкость вспухало во мне, как молоко, забытое на плите. Новая тема. За конторкой дежурного в холле я заметил ячейки для почты постояльцев с их фамилиями и номерами их коттеджей; и среди прочих разглядел фамилию писателя Билла Бартона, который, оказывается, жил сейчас здесь же, в соседнем домике. С Бартоном я собирался встретиться в городе, теперь со мной не было ни рекомендующей меня записки, ни того романа, который по совету Жана Лабье я собирался вручить Бартону для прочтения. Идти просто так, с пустыми руками, вроде неловко — в руках я держал завернутое в мятую газету американское издание поэта-щегла, кажется, четвертый, последний том. Однако я уже здесь, путь не близкий, когда я еще раз увижу Бартона. Cтоял, вертел в руках свою шляпу и завернутую в газету книгу, не зная на что решиться.
Было тихо и пустынно. Угнетенные снегом ветви елей опускались вниз. Иногда с осторожным шорохом кусок снега соскальзывал, и ветка с облегчением выпрямлялась. Дверь оливкового домика, отделенного от меня узкой, по-дуэльному небрежно протоптанной в снегу тропинкой, открылась, и на тропинку ступил известный столичный поэт Висконти, знаменитый шейным цветным платком и манерой читать свои претенциозные вирши с невероятным завыванием, что произвело небывалый фурор во время его последней поездки в Штаты. Я не принадлежал к поклонникам его таланта. Теперь, одетый пестро, как гид иностранных туристов, он выдохнул дым то ли от трубки, то ли от сигары широким, плоским сомоподобным ртом и, прищурившись, медленно пошел ко мне навстречу, прикидывая, знакомы мы или нет. Я тоже спустился по ступенькам и, свернув, зашагал, не оборачиваясь, по боковой тропинке, уводящей в глубь территории. “Не пой, красавица, при мне ты песен Африки своей”. Другой ряд, другой джентльменский набор.
Пихты и ели сторожили тишину. Домики с номерами на фасаде стояли в сугробах, по окна занесенные снегом, а снег между деревьев, если на него падала тень, казался фиолетовым, ноздреватым и несвежим. В одном месте я оступился и провалился ногой по колено в рыхлое месиво с запеченной корочкой сверху. Когда, чертыхаясь, я отряхнул брючину и поднял голову, то увидел, что стою как раз напротив того коттеджа, на втором этаже которого, как я теперь знал, проживал Билл Бартон. Еще раздумывая и сомневаясь, я поднялся по узкой лестнице, не зная на что решиться: на часах полдень, самое рабочее время, стоит ли мешать человеку во время его трудов. Откуда-то сверху доносился приглушенный, рокочущий голос; и только поднявшись на вторую площадку, я понял, что голос раздается как раз из-за нужной мне двери. Кто-то читал вслух. Потом заторопился, приседая на согласных, смех, опять бормочущее чтение. Очевидно, работает с диктофоном, либо читает приятелю написанное сегодня ночью. Свет сквозь маленькое оконце, сломавшись зигзагами о косяк, лежал на двери и стене. Слов было не разобрать. Затем опять засмеялись. Я вздохнул, громко постучал и, подождав немного, заскрипел открываемой дверью.
В огромной, залитой светом мансарде около небольшого столика с несколькими бутылками джина, сигаретами и еще чем-то расположилась целая компания, с молчаливым любопытством уставившаяся на меня; еще один чернявый мужчина в очках сидел с рукописью на коленях чуть поодаль. Когда я представился и сказал, кто мне нужен, он чуть привстал, давая понять, что он и есть нужный мне Билл Бартон. Фразы обычных приветствий, приглашение раздеться и присесть, взмах рукой, и он продолжил чтение, во время которого я смог осмотреться.
Первой, кого я заметил и узнал еще в дверях, но все же не сразу, а узнавая как бы быстрыми волнами, что приносят то одну, то другую необходимую для совпадения деталь, оказалась сидевшая несколько отдельно от остальных знаменитая поэтесса Алменэску. Она держала в руках наполовину пустой стакан с джином и курила сигаретку и, пока я усаживался, смотрела на меня расширенными, так как сидела лицом к свету, накрашенными глазами. Накинутая на плечи шубка не скрывала ее стройных ног, подчеркнутых узкими бриджами и высокими ботфортами в обтяжку. Теперь я узнал и Билла Бартона, хотя на фотографии малого формата в книге, что я видел, он был без очков, и я представлял его ниже ростом, более щуплым и без такого низкого рокочущего голоса. Желтый клин света падал от зеленой настольной лампы, на шишаке ее висел нательный крестик, зацепленный за шнурок, а читал Бартон что-то вроде нового путешествия Гулливера по колониальной России — сюжет несколько неожиданный для автора книги о Мальвинских островах. Я, конечно, не был вполне готов к восприятию прозы на слух, протиснувшись из одного пространства в другое, еще плавая, качаясь наподобие очертаний за запотевшим окном, что ежесекундно сдвигались, размывая линию, не находя себе места; да и повествование, кажется, двигалось к концу.
Пока он читал, я разглядывал помещение. Свет из нескольких окон как-то странно перемешивался посередине, создавая белое слепое пятно, что сдвигалось то влево, то вправо, висело белой Гренландией чуть выше столика с полупустой бутылкой водки (конечно, это была русская водка, а не джин, как мне показалось вначале) и другой, порожней, на полу. Предметы казались неестественно отчетливыми, будто подретушированными и обведенными жирным грифелем. Пуговица на узком в трещинах подоконнике рядом с распотрошенной пачкой папирос, в рыхлый разрыв грубо толкались невидящие пальцы и мяли папиросу в ожидании точки или конца абзаца, а затем Бартон прикуривал.
С Алменэску я несколько раз встречался взглядом, читая в нем то же (только сейчас сфокусированное в точку), что рассеивалось ею по телеэкрану в еженедельных программах «Женский час»: аффектированную вопросительность, экзальтированный надлом и обращенный равно ко всем призыв. Артистическая грация в каждом жесте. Как и в каждом ее четверостишии, где прозаизмы соединялись с высокими словами посредством дательного падежа и слово плавало в строке, наполненной пеной нервозной женственности. Что-то в ней вызывало беспокойство. Хотя нужно признаться, что я вообще с опасливой осторожностью относился к женщинам, постоянно находящимся на границе тихой истерики и восторженно артистичным, даже если эта артистичность естественна для них как кожа.
Заговорили сразу, как только Бартон кончил чтение. Те двое или трое статистов, с дамой между ними, высказывались односложно, создавая ровный непритязательный фон. Зато Алменэску собирала всеобщее внимание, как вогнутая линза солнечные лучи, поворачивала его, ориентировала по-своему, будто грела различные участки тела поворотом рефлектора, и сразу натягивала узду, если чье-то внимание ослабевало. Речь шла о незнакомой румынской девочке, которая сидела в одном захолустном театральном зале позади Алменэску, и та, ряда на четыре ближе к сцене, постоянно чувствовала на себе пристальный взгляд девочки. В ее устной речи присутствовало твердое и ощутимое как заноза тире г-жи Морозовой, заменяющее жест и глагол, и это тире она обозначала плавным взмахом руки вверх, осыпая при этом пеплом узкие бриджи. «Обернусь — смотрит. Посижу еще немного, скошу взгляд вбок — опять глаза. Девочка, маленькая, черненькая, слишком серьезная, а глаза — блюдца. Руку поднесу, чтобы волосы поправить, провести по лицу, рука тяжелая, как не моя — не поднять. Обернусь — смотрит. Не мигая. Меня уже дрожь бьет — такие глаза. Мистика какая-то. Чувствую, что вся в ее власти. Ничего больше не вижу и не слышу, только оборачиваюсь — глаза — и не могу отвести взгляда». И так далее, варьируя эту тему словно заплетаемую косицу, пока не отвердело в восприятии не только тире, но и эти глаза. В промежутке ко мне: «А вы так и приехали — без шляпы и в пиджаке?» — осматривая мой черный пиджак и белую сорочку с галстуком. «А что у вас за книжка?» — шуршала разворачиваемая газета. — «Ого, вы ее, наверное, в подарок принесли? — Алменэску — Нет? А я-то думала — в подарок. Мне кажется, что я о вас где-то уже слышала, как, вы сказали, ваша фамилия?»
Я понимал, что Алменэску одновременно и кокетничает, и подсмеивается надо мной. Однако, возможно, любой мужчина на моем месте почувствовал бы то же самое: слишком отчетливо ощущались женские флюиды, излучаемые ею если не в силу привычки, то по закону натуры. Мне было знакомо и понятно это желание нравиться во что бы то ни стало и кружить голову всем без исключения; но это желание хотя бы отчасти искупалось тем, что она была действительно мила. А ощущение, ею вызываемое, запоминалось, как полет бабочки или стрекозы в театральном зале. На несколько мгновений я увлекся, не настолько, чтобы согласиться выпить настоятельно предлагаемого джина, ибо не имел привычки пить в час дня под сладкое и сигареты; но как нога, всунутая в горнолыжный сапог с парафином, облекается им по размеру, так и я ощутил, как через некоторое время растаяла моя естественная настороженность и подозрительность к пространству, будто я нашел рамку для души. Все было мило и непринужденно, я разговорился, и на какое-то мгновение у меня в голове мелькнуло: «А не переехать ли мне в столицу, поближе к этим ласковым людям?» — хотя и казнил впоследствии себя за то, что размяк.
День посерел, когда через пару часов вся компания высыпала вниз: пронизанный мелкой сеткой воздух вылавливал из потока парочку опереточно красивых елок, понурую осину, игрушечные коттеджи и заляпанную грязью по стекла машину Билла Бартона, с которым мы уже договорились о новой встрече. Он был спокойно и ослепительно пьян, но не педалировал это состояние, избегал придаточных и строил фразу без лишней затейливости. Уговаривая меня ехать кататься с ним и Алменэску на машине, он остановился и сказал: «Все это от дьявола. Все это ерунда, вот у меня душа гибнет, это да». Алменэску несколько набекрень, по самые брови надела мохнатую шапку — копию кинематографической версии головного убора Печорина, нахлобучившего такую же папаху на свою трепетную пленницу в одной посредственной экранизации Лермонтова. Смотря ошалело, она говорила: «А мне вы разве ничего не привезли, я тоже люблю читать?» И опять интересовалась, где моя шляпа. Говоря одновременно со мной и дамой-приятельницей. Олицетворяя тот тип прелестной особы, которой все женщины завидуют, мечтая походить, а мужчины желают обладать. Если бы не две пустые бутылки, я имел все основания полагать, что кокетничает она чересчур. «Поехали, — уговаривал меня Бартон, думая, что я сомневаюсь, — смотрите, другого раза может и не быть». Очевидно, он полагал, что мне будет лестно находиться в компании столь знаменитых писателей, но я вообще пресыщался общением в течение нескольких часов, а популярность была в моих глазах хоть и простительным, но недостатком. «Давайте, мы подвезем вас хотя бы до станции», — садясь в машину, бубнил Билл Бартон, а Алменэску смотрела через стекло не мигая. «Мы тут два дня назад потеряли ее шапку, искали, искали и нашли, представляете, на том же самом месте, на обочине». Я поднял руку на прощание; машина, вильнув, взяла с места сразу, нарисовав трапецию расходящимся в обе стороны грязным снегом».
(Здесь мы прервем цитируемые нами записки, чтобы указать на тот специфический привкус жизни колониальной богемы, который может вызвать недоумение у неосведомленного читателя. Писательские забавы известны. Один пишет, опустив ноги в таз с горячей водой. Другой переодевается в женский наряд. Третий работает под звуки заунывной волынки. А четвертый покуривает кальян, обмениваясь опытом с тенями прошлого. Кто много получает, тот много и тратит. Будь снисходителен, читатель, — если, конечно, сумеешь. Но продолжим цитату.)
«Приехав через два дня, я нашел Бартона в бильярдной, где он гонял шары кием на пару с сумрачным субъектом в кожаном пиджаке, накрытый колпаком тускло лимонного света неоновых ламп. Бартон заторопился, кончая игру, и уже через пару дряблых минут со словами: “Вы меня вдохновили, и я выиграл”, — натягивал свою куртку. Беседуя, мы спустились по лестнице. Обычный светский разговор, в котором собеседники по разным причинам не попадают в такт и не находят нужных слов. Бартон был не готов к роли мэтра, я к роли начинающего автора. “Ба, да я вас сейчас познакомлю еще с одним хорошим писателем”, — несколько оживившись, воскликнул он.
Навстречу нам по гостиничному холлу двигался Тэст. Господи, я и не знал, что у него нет одной ноги. Мы кивнули друг другу, Тэст с ласковой оторопелостью; я готов был провалиться на месте. О моих эссе не было сказано ни слова. Пространство стало тесным, как лист бумаги. Ситуация напоминала клоунский трюк с яростным открыванием открытой двери. Мим трясет дверную ручку, упирается всем телом, а когда в отчаянии уходит, дверь, скрипнув, приоткрывается в другую сторону. Встреча, которую мы в уме отменили, нарушает тайную жажду завершенности, что таится в оркестровке любой мелочи.
(Встреча двух поколений напоминает встречу двух цивилизаций: церемониала здесь куда больше, чем искренности. Однако теперь, спустя годы, я с удивлением нахожу, что Бартон по отношению ко мне выказал себя куда более терпимым и добросердечным, нежели я сам, когда мне сейчас приходится общаться с молодым, нахальным и говорливым виртуозом, коему дела нет до моего Приамова скворечника, впрочем, как и мне до его Гекубы)».
Руководствуясь нашим правилом диалогично воспроизводить облик своего героя, мы условились о встрече с Биллом Бартоном, который до сих пор является не только старейшиной цеха и одним из самых талантливых писателей колонии, но и одним из самых удачливых — кто еще может похвастаться, что имеет в своем письменном столе так мало неопубликованного, и о ком одновременно может появиться хвалебная статья в официозном «Культура и мы», эмигрантском «Дебаркадере» и в парижском «Материке» — этой зарубежной копии «Нью пис» г-на Тваделло. Уметь нравиться столь разным и многим, поступаясь при этом столь малым, завидная удачливость. И попросили как всегда подтянутого (несмотря на преклонный возраст) Билла припомнить хоть что-нибудь о тех далеких встречах с Ральфом Олсборном, когда тот был еще, по сути дела, никому неизвестным начинающим автором. Приводим дословно высказывание Бартона: «Знаете, трудно — слишком было давно и недолго. Да и прочел я тогда, кажется, только один его роман, но название не запомнил. Это всегда довольно странное ощущение, если появляется что-то тебе неизвестное и заслуживающее внимания, когда кажется, что круг уже очерчен и ничего и никого нового не будет. Если сравнивать, то с тем, что у вас вдруг начинает расти шестой палец на руке или еще один зуб, а кажется, что достаточно тех, что уже есть. Роман я не помню, вернее, помню очень смутно, но он мне вроде бы понравился как вещь, написанная с серьезными намерениями, иначе не стоило о нем и говорить; но с одним недостатком: он был написан как шедевр, а шедевром не являлся. Только настоящая вещь, что тоже немало, так как в колониальной литературе не так-то много настоящих романов. Разоблачать надо самого себя, ибо только в себе, как в колодце, не видно дна и нащупывать его можно только шестом совести. А каждый раз нацеливаться на шедевр — это, несомненно, чересчур, но у каждого своя лопата и своя траншея, может, это и неплохо».
В этой главе нам осталось привести еще два отрывка из второй записной книжки Ральфа Олсборна, в одном из которых мы как раз и находим описание сан-тпьерской квартиры Билла Бартона, точнее, квартиры его первой жены, где Бартон останавливался, приезжая в Сан-Тпьеру.
«Мне импонировал его ум, его устная речь, которая походила на письменную. Бартон говорил точно так же, как и писал, а так как говорить он мог на любые темы, не думая о цензуре, то, возможно, говорил он даже лучше.
В его сан-тпьерской квартире присутствовало то необщее выражение, что выгодно отличало ее от жилищ богатых друзей отца, с чистотой и порядком по струнке и мучающимися от молчания вещами. Здесь говорило многое, одушевленное каким-то завихрением, взбаламученным состоянием: обилие ненужных, но что-то щебечущих милых вещиц, игривые плакаты, кабинет, устроенный на просторной кухне, вывезенная из России коллекция табличек типа “Не влезай, убьет!” и дорогая нефритовая безделушка на огромном, прошлого века письменном столе, столе с обилием ящиков-воспоминаний, внутренних перегородок, тайников, закладок и подставок, за которым, как объяснил Бартон, он никогда не работал, предпочитая тахту или другое укромное место. Мне нравилось рассматривать иллюстрации в книге, которую представляло из себя помещение, где прожито немало, хотя немногие из них запоминаются. Эта рамка настолько обязательна, что без нее картина висит на мольберте и не закончена. Помню квартирку-студию наперсницы г-жи Алтэ, на протяжении долгих лет выпускающей книги о литературе, исполненные, несмотря на ее возраст, молодой силы и ума, квартиру, сплошь состоявшую только из книжных полок, этажерок и книжных шкафов без какого-либо флакончика, полочки, вазочки, свидетельствующих о том, что здесь жила молодая, потом средних и так далее лет женщина со свойственными ее полу пристрастиями и привязанностями; хотя бы одна улика женственности или ниточка, отставшая от рукава поклонника (или, как шептали о ней — поклонницы), только уникальное море антиквариата и пережившая мертвых сухая корабельная мышь-библиотекарша.
Я задумался, сличая впечатления, и в этот момент в комнату вошла милая, рыжая, полноватая женщина, которая выглядела лет на десять-пятнадцать старше Бартона, всегда одетого достаточно щеголевато (но обязательно с каким-нибудь нравящимся мне изъяном, что лишало его облик пугающей лощености). Он представил меня дежурным комплиментом, в ответ мне захотелось сказать что-либо приятное и ему, и я с трудом удержался, чтобы не выразить радостного удивления тем, какая у него молодая мать (я уже знал о его столичной семье, и был уверен, что рыжая, приятная женщина — не жена, а мать Бартона). Он обернулся на вбежавшего в комнату карликового пуделя, и я, к счастью, проглотил то, что было на языке.
Когда она вышла, мы разговорились о том доме, который у каждого только один, куда тянет вернуться, а все остальное лишь сублимация. Возможно поэтому великий и несчастный Кобак (находившийся тогда в зените славы и не ведавший о том, что последняя изданная им книга оттолкнет от него почти всех читателей и издателей) жил только в отелях, годами не обзаводясь ничем своим. Я рассказал, как встретил однажды его в шикарных апартаментах слишком дорогой гостиницы, где он занимал чуть ли не целый этаж и где, однако, не было ни одного отпечатка живого или жилого, вроде маслянистого лунообразного пятна на обоях под лампой, оставленного прислонявшимся затылком. Как в целлофане. А потом в цепи неясных ассоциаций припомнил, как в тот день в Рамос-Мехиа, когда я, глядя на несколько понурый вид Бартона, спросил, где Алменэску, он ответил: “Нету, приехал муж, сказал, что плохо себя ведет, завязал в узелок и увез”.
Мы встречались с ним в общей сложности раз пять-семь, пока эти беседы, слишком умные, длинные и серьезные (как прустовский период), чтобы иметь хоть отдаленный привкус приятельских отношений, не перестали меня занимать. После “Акрополя” Бартон был озабочен тем, что издательства разрывали ранее заключенные с ним договоры, выплатив аванс, но нагрев на какие-то там тысячи, а я к тому времени не заработал литературой ни песо, да и не хотел зарабатывать — слишком многое было разным, и я уходил вбок и в сторону (что одно и тоже), вспоминая все реже и реже, обретая новых знакомых и собеседников, брел по какой-то аллее, обсаженной деревьями с редкой кроной, с роением пятен света и тени на красноватом и сыром песке, потом заворачивал, растительность менялась прямо на глазах, скромный скандинавский ландшафт заменялся экзотической флорой, а тени становились круглей и короче, пока однажды, переписывая все из старой записной книжки в новую, не оставил на вторую букву алфавита пустое место. И только впоследствии, заходя в соседнюю подворотню, у цветочной лавки, где жил новый колониальный обериут, иногда вспоминал, что анфилада проходных дворов с гулким и сырым эхом подворотен кончалась темной лестницей, кажется, на втором этаже переход на другую лестницу, и из-за двери уже лаяла и скребла коленкор собака, а ты…»
Что ж — как это ни грустно — попытаемся поверить: встреча поколений — встреча двух цивилизаций. Но вот последний отрывок из синей записной книжки.
«Я позвонил ей в один пустой столичный вечер, никуда не поехав и маясь от пустоты чужой квартиры, одурев от работы, чтения западных журналов и “Ювелирного озера” г-на Сократова в “Отклике”, от которого стоял оловянный привкус во рту и шум керосинового прибоя в раздраженных перепонках. Набирая номер, я разглядывал “Мисс-октябрь” — блондинистую нью-йоркскую блядушку в розовой пене, выглядывающую из изумрудного глянцевого омута обложки затрепанного “Плей-боя” на столике. Позвонил, ибо уже несколько лет не давали покоя (хотя покой, пожалуй, слишком, — так, небольшая заноза) валяющиеся где-то там у Алменэску те мои убогие тексты, все остальные экземпляры которых я хищно выследил и тут же уничтожил. Забрать и лишить жизни. Не очень удобно, но надо. Гудки, гудки, никого нет дома, мотается по каким-нибудь делам, ее недавно избрали почетным членом американской Академии наук, и она тотчас написала вдохновенные вирши в защиту уже колониального академика — раздался щелчок, и тоненько: “Алле! Алле! Слушаю!” Сдержанно напомнил о себе, высказал просьбу. Возможно, она меня не узнала (немудрено) и не поняла, кто и зачем звонит, или по другой причине на нее нашла волна тихой истерики, в результате чего на меня обрушился какой-то ласково-идиотический бред. Про какие-то ключи, которые она потеряла и теперь не знает, что делать. Перемежая тему ключей с восторгом ненужной благодарности явно не по тому адресу. Я слушал, слушал, затем невнятно извинился и, ощущая, как прогнулась душа от осевшей грусти, тихо повесил трубку».
Профессор Стефанини косвенно полемизирует с утверждением Сандро Цопани, высказанном в уже упоминавшемся очерке из сборника «Десять лет среди теней», где указывалось, что будущий лауреат в первый период своего творчества « хотя и не ориентировался на колониальную акустику», но писал, если так можно выразиться, «учитывая негласные мнения читателей, коими являлись лучше колониальные писатели». Славист из римского университета, оспаривая мнение уважаемого представителя мексиканской эмиграции, категорически подчеркивал свое несогласие, уверяя, что «сэра Ральфа ни в коей мере не могли удовлетворить отношения с теми литераторами, которые, пусть и не всегда по своей воле, находились в шатком, двусмысленном и неопределенном положении, что бросало такую же шаткую и неопределенную тень (корявое, размытое чернильное пятно) на их репутацию». Лояльность, по определению Макколея, — «хорошая штука, если не приводит к привычке постоянно искать мелочь под ногами». Сэру Ральфу приходилось считаться с тем, что, «став волосом, выпавшим из пробора» (еще одна цитата), он одновременно как бы поднимал над головой картонный ореол непризнанного гения, на что он никогда не претендовал, стараясь, по возможности, всегда оставаться в тени и понимая, чем это чревато. Но, отвергая категорический императив долженствования, он являл тем самым закусившую удила претензию. А под ее подкладкой любой мнительный наблюдатель легко разглядит обращенный к нему узор упрека.
«Представьте себе, — сказал профессор Стефанини, делая доклад на ежегодных панамериканских чтениях, — положение талантливого писателя, для которого литература не инструмент для бичевания порока и исправления заблудших душ, не средство заработать деньги или известность и не приспособление для духовно-эстетического онанизма. А единственный и естественный способ, прошу меня правильно понять, своеобразного мистического существования, уникальный опыт которого может быть — в случае удачи — понятен и важен для идущих следом читателей. Представьте положение этого писателя в жестоком и тоталитарном мире, причем я хочу обратить внимание не на социально-полицейскую сторону этой трагедии, а на ее метафизический план. Представьте себе одиночество, которое ожидает такого писателя в мире, где литература всегда воспринималась как инструмент борьбы, вроде мачете или кувалды, а писатели, по меткому определению одного генерала, делятся на пишущих и руководящих. И такое отношение к искусству впитано с молоком первого печатного листа, хочешь-не хочешь, а мохнатым илом осело в крови по сути дела всех читателей. Но в любом случае такое одиночество — завидно на редкость, до искусанных от зависти губ. Как в тесноте поэтического ряда слово подчас поворачивается новой гранью, так и гнилые пни фосфоресцируют только в полной, чернильной темноте. Да и что скрывать: ил илом, а шило в кармане не утаишь, и скажу честно: только в фантастической обстановке колониальной России создались подлинные условия для расцвета настоящих талантов, а о таком благодарном читателе, какой имелся в колонии, можно было только мечтать в старые монархические времена, а вам такое, господа хорошие, срать-пердеть-колесо вертеть, и не снилось. И скажу вам с последней прямотой: Ральф Олсборн — хоть и солнце колониальной поэзии, но…»
И несчастного профессора Стефанини, под улюлюканье собравшейся тут белоэмигрантской сволочи, что понятно каждому беспристрастному человеку, вывели под белы рученьки из зала, хотя фашиствующие молодчики из эмигрантского отребья пытались устроить над ним самосуд Линча и расправу. А наутро буржуазная пресса с лицемерным прискорбием сообщила о «некой якобы болезни всегда тайно сочувствовавшего марксистам известного слависта и русиста профессора Стефанини, перегипнотизированного большевиками и теперь поправляющего пошатнувшееся здоровье на даче герра Люндсдвига на Лазурном берегу». Знаем мы эти дачи.
Примечания
[1] Не лишена правдоподобия другая, правда более смелая и ироничная версия, что это имя происходит от известной русской поговорки «За зеваку в рот собаку!», и если жестче артикулировать звук «з», как «ж», то и получится то, что надо (прим. ред.).
 Комментарии
Комментарии…Сэм Брюэль… «Прогулки по Форуму»… — ср. «Прогулка по Риму» и «Жизнь Анри Брюлара» Стендаля и роман Н. Климонтовича «Дорога в Рим» (конец 1970-х).
…Сандро Цопани… «Десять лет среди теней»… — А. Степанов, см. выше. Расщепление одного провокатива (А. Степанов) на двух литературных персонажей — Стефанини и Цопани. Ср. мемуары П. Анненкова «Замечательное десятилетие» (1880), книгу «Десять лет после “Одного дня Ивана Денисовича”» (1973) Ж. Медведева, статью «Двадцать дней новейшей русской поэзии» В. Кривулина и др.
 …экзотический Фаз Кадер… — писатель Фазиль Искандер (1929). Самые известные книги Искандера: сатирическая повесть «Созвездие Козлотура» (1966) и автобиографический роман «Сандро из Чегема» (1973-1988). …экзотический Фаз Кадер… — писатель Фазиль Искандер (1929). Самые известные книги Искандера: сатирическая повесть «Созвездие Козлотура» (1966) и автобиографический роман «Сандро из Чегема» (1973-1988). |
 ** …наперсница г-жи Алтэ… — Лидия Гинзбург (1902-1990), литературовед. В своих книгах («О лирике», «О психологической прозе», «О литературном герое» и др.) продемонстрировала незаурядную интеллектуальную проницательность, точность анализа и оппоязовскую хватку. Один из немногих советских литературоведов, пользовавшихся огромным авторитетом в нонконформистской среде. Оставила большой архив (записные книжки, дневники).
** …наперсница г-жи Алтэ… — Лидия Гинзбург (1902-1990), литературовед. В своих книгах («О лирике», «О психологической прозе», «О литературном герое» и др.) продемонстрировала незаурядную интеллектуальную проницательность, точность анализа и оппоязовскую хватку. Один из немногих советских литературоведов, пользовавшихся огромным авторитетом в нонконформистской среде. Оставила большой архив (записные книжки, дневники).* …сухая корабельная мышь-библиотекарша… — сразу после этого абзаца в первой редакции шел текст: «Или квартира захудалого учителя литературы, с тапочками, еврейским душком и альбомами импрессионистов, горделиво прильнувшими маслянистыми лицами к стеклам пузатых шкафов и каких-то тумбочек в кабине одного официального ленинградского поэта, которого теперь многие считают лучшим официальным поэтом вообще или, по крайней мере, здесь, с которым меня свела любезная Лидия Яковлевна и которого последний раз я увидел в прихожей того же Б.: маленький, с жесткими колечками длинных волос, тщедушный, он держался за ручку двери, собираясь уходить — «Вы не знакомы?» — «Да» — и доканчивая какой-то разговор, сказал: «И все-таки все дело в интонации, если она есть»; а после его ухода мы с Б. и разговорились о том доме, который у каждого только один…». «Лучший официальный поэт», с которого автора «Момемуров» знакомит «любезная Лидия Яковлевна» (Гинзбург, см. пред. прим.) — А. Кушнер (1937). Автор книг «Первое впечатление» (1962), «Ночной дозор» (1966), «Приметы» (1969» и др. До перестройки был на втором плане официальной советской поэзии. Лауреат петербургской литературной премии «Северная Пальмира» (1994) и Государственной премии России (1996). «Одним из лучших лирических поэтов ХХ века» его назвал И. Бродский, с которым на самом деле у Кушнера были весьма сложные отношения. Еще более осторожно Кушнера воспринимала нонконформистская литература — отдавая должное его ранним стихам и подчеркнутой аполитичности, многие, как, например, В. Кривулин и Б. Останин в ряде статей критиковали кушнеровскую поэзию за стилистический и идейный конформизм. Во второй самиздатской редакции романа «средняя школа» была заменена «сельской гимназией», «официальный ленинградский поэт» стал «сан-тпьерским», однако при создании третьей редакции 1993 года весь этот фрагмент был вычеркнут.
…милая, рыжая, полноватая женщина… — Инга Петкевич, первая жена А. Битова. В романе «Плач по красной суке» (1997) рассказала о своей жизни.
** …Кобак… последняя изданная им книга… — роман В. Набокова «Look at the Harlequin!» (Нью-Йорк, 1974). В русском переводе «Посмотри на арлекинов!» появился уже после перестройки.
«Акрополь» — «МетрОполь», самиздатский московский литературный альманах, составленный в 1979 году Вик. Ерофеевым, Е. Поповым и др. Альманах вызвал немалый шум, был переиздан на Западе и сыграл немалую роль в формировании постперестроечных репутаций его участников.
…«Ювелирное озеро» г-на Сократова в «Отклике»… — «Ювенильное море» А. Платонова опубликовано в парижском журнале «Эхо», № 4, 1979. Это дает возможность датировать весь эпизод, как произошедший за несколько лет до 1979 — зимой 1977 или 1978 гг.

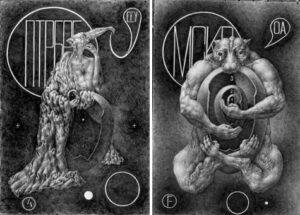 •
•  * Билл Бартон — Андрей Битов (1937) — писатель. В 1979 поместил четыре рассказа в альманахе «Метрополь», который затем был выпущен за рубежом. За участие в этом несанкционированном издании был уволен из Московского литературного института, где вел занятия по литературному мастерству. Эпизод, описанный в «Момемурах», очевидно, имел место до выхода «Метрополя» в свет. Впоследствии А. Битов получил ряд литературных премий (в том числе Литературную премию Андрея Белого, 1988) и государственных наград. С 1991 — президент Российского ПЕН-Клуба.
* Билл Бартон — Андрей Битов (1937) — писатель. В 1979 поместил четыре рассказа в альманахе «Метрополь», который затем был выпущен за рубежом. За участие в этом несанкционированном издании был уволен из Московского литературного института, где вел занятия по литературному мастерству. Эпизод, описанный в «Момемурах», очевидно, имел место до выхода «Метрополя» в свет. Впоследствии А. Битов получил ряд литературных премий (в том числе Литературную премию Андрея Белого, 1988) и государственных наград. С 1991 — президент Российского ПЕН-Клуба. Бьюл Тиффони — Юрий Трифонов (1925-1981), популярный в 1970-е годы советский писатель, автор повестей «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной», романа «Старик» и др.
Бьюл Тиффони — Юрий Трифонов (1925-1981), популярный в 1970-е годы советский писатель, автор повестей «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной», романа «Старик» и др. г-н Тэст — Арсений Тарковский (1907-1989), поэт, переводчик, автор поэтических сборников «Вестник», «Волшебные горы», «Зимний день». В кинофильме Андрея Тарковского «Зеркало» его отец Арсений Тарковский читает за кадром свои стихи. Английское tet означает «экзамен, испытание». Ср. Т. С. Элиот и «Вечера с господином Тэстом» П. Валери.
г-н Тэст — Арсений Тарковский (1907-1989), поэт, переводчик, автор поэтических сборников «Вестник», «Волшебные горы», «Зимний день». В кинофильме Андрея Тарковского «Зеркало» его отец Арсений Тарковский читает за кадром свои стихи. Английское tet означает «экзамен, испытание». Ср. Т. С. Элиот и «Вечера с господином Тэстом» П. Валери. …cтоличный поэт Висконти… — Андрей Вознесенский (1933). Лукино Висконти (1906-1976), итальянский режиссер кино и театра, один из основоположников неореализма («Рокко и его братья», «Леопард», «Смерть в Венеции» и др.). Среди поставленных Висконти спектаклей — чеховские «Три сестры» и «Дядя Ваня».
…cтоличный поэт Висконти… — Андрей Вознесенский (1933). Лукино Висконти (1906-1976), итальянский режиссер кино и театра, один из основоположников неореализма («Рокко и его братья», «Леопард», «Смерть в Венеции» и др.). Среди поставленных Висконти спектаклей — чеховские «Три сестры» и «Дядя Ваня».